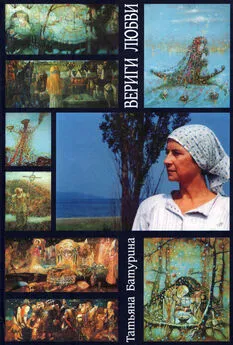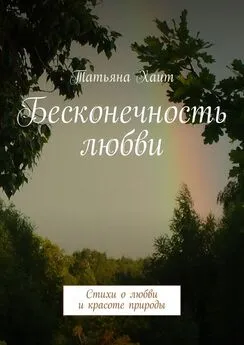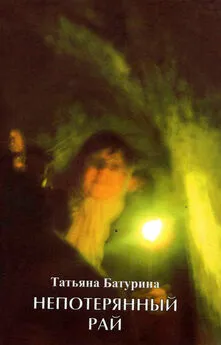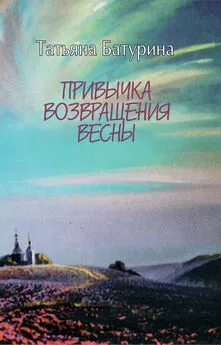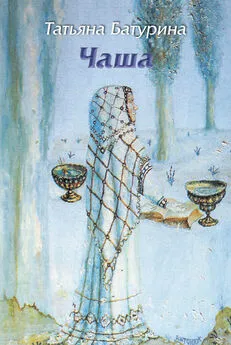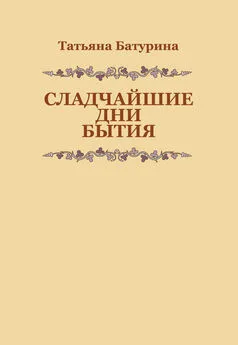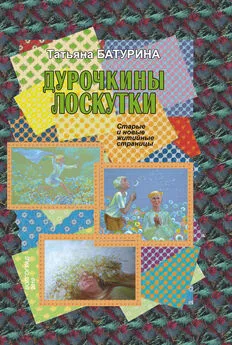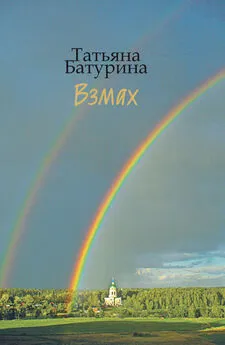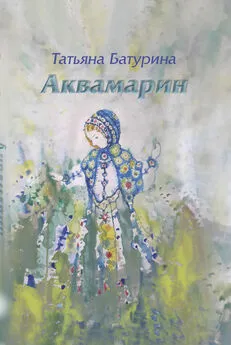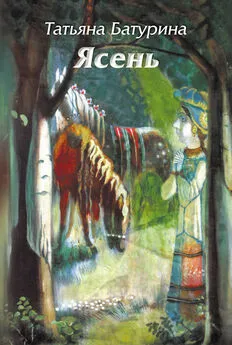Татьяна Батурина - Вериги любви
- Название:Вериги любви
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2007
- Город:Волгоград
- ISBN:5-9233-0575-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Татьяна Батурина - Вериги любви краткое содержание
В качестве иллюстраций в книге использованы репродукции картин народного художника Украины, лауреата Шевченковской премии Андрея Антонюка.
Вериги любви - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И церковь в селе древняя, петровских времен, Покровская, Богородичная. Теперь ее переименовали почему-то, и она стала зваться во имя Иосифа Обручника. Стоит церковь старенькая, держится, не преступает древнего канона, не идет в союз с униатами-западниками. Спаси тебя, Господи, старинушка, со всеми твоими прихожанами, из коих половина – фамилии Бойко, то есть моей, родовой!
Эта фамилия на селе самая частая, можно сказать, главная: полсела действительно Бойко. Древние старушки намекали мне: мол, из запорожских казаков были первые поселяне. Кто теперь узнает! И нигде ведь не прочтешь, летописи про Житне-Горы не помнят… А в далеком благодатном детстве село было для меня и брата Вити сказкой.
Когда наступало лето, родители усаживали нас в поезд, и мы, маленькие (и как родители не боялись отпускать одних?), ехали в Киев, а там с помощью добрых людей добирались электричкой сначала до Фастово, а потом, рабочим поездом, до Мироновки.
Это был поезд удивительный – дом на колесах: пассажиры, крестьяне из окрестных сел, возвращались из Фастово и Киева с узлами да кладями – с городской добычей. Промаявшись день в магазинах да ночь на вокзалах, одни сразу примащивались спать, другие расстилали на лавках рушники, выкладывали нехитрую снедь (еще из дома): хлеб круглый, пироги, вареные яйца, сало. Нас радушно угощали, и мы никогда не отказывались: когда еще доедем до Житне-Гор, когда еще за стол усядемся…
А хорошо в поезде! За окошками – зеленые чащи и цветастые поляны, а когда проезжали вдоль сел, мимо крытых соломой хат, выискивали наперебой, какая из них самая большая да богатая; примечали, где забор крашеный, а где плетень горбится черный с горшками на столбах; в каком дворе куры и гуси хозяйнуют, а в каком хозяйка белье на веревках развешивает. И мимо свадьбы иной раз проезжали, и мимо похорон. Церковенки – те как из сказки (к слову, в Украине от разора куда больше храмов упаслось, чем в России). На всех станциях пели петухи.
Про украинский поезд я люблю рассказывать до сих пор, ведь это не про поезд вовсе, а про детство! Однажды, когда мы держали путь в Киев всей семьей, в вагон зашли контролеры, они проверяли билеты и потом протыкали их, делая аккуратные круглые дырочки в окружении цифр. Усатый дядька в фирменной фуражке посмотрел на меня:
– Сколько дивчине лет?
– Девять, – ответила мама, и дядька, продырявив наши билеты, отправился было дальше, но его остановил мой возмущенный крик:
– Мама, ты что, забыла, у меня сегодня день рождения!
Да, именно в то утро, 15 июня, мне исполнилось десять лет. Контролер строго глянул на маму, потом на меня, взъерошенную, в закипающих слезах, покачал головой, но все же миролюбиво махнул рукой:
– Ладно, будьте здоровы, – а тетенька, что с ним была, погладила меня по голове:
– Ну, не плачь, у тебя же сегодня праздник! А вы, мамаша, теперь покупайте дочке взрослые билеты.
Мама не знала, что и сказать, кроме «спасибо», зато мне потом ох и досталось! Да разве я знала, что билеты бывают детские и взрослые, что детство по правилам железных дорог длится до десяти лет, а после десяти полагается всем гражданам называться взрослыми? И что эта самая взрослость стоит дороже детства – вроде как железнодорожные билеты…
В Боженивке в вагон всегда заходил хлопчик с ведром родниковой воды и большой вязанкой-сеткой с глиняными кринками. Он разливал воду за малые копейки, и люди охотно брали – кринку за кринкой. В ведре плавали березовые и дубовые листья, мама объясняла: «Чтоб вода не расплескивалась и не нагревалась…»
Мы тоже покупали кринку, и надо было выпить всю воду, пока хлопчик в вагоне. Я пила и оглядывалась на людей: все вокруг угощались родниковой водой, старались побыстрее, к следующей остановке, освободить посуду, чтобы маленький трудник успел выйти из вагона.
– А как он назад вернется, откуда приехал? – мне почему-то было очень жалко хлопчика.
– А вон смотри! – и все прильнули к окошку: рядом с дорожной насыпью стояла подвода, и к ней со всех вагонов сбегались ребятишки с пустыми ведрами и кринками. На подводе возвышался большой железный бак – совсем как у нас дома! – и хлопчик постарше – тот, что с подводы, – брал по очереди ведра, наливал в них воду из бака, и дети снова спешили к поезду.
– Вот молодцы! – отец всегда хвалил тех, кто умел что-нибудь делать хорошее. А я успокоилась: домой наш хлопчик вернется обязательно.
Наконец – Мироновка, где нас уже поджидал дедушка Кондрат с подводой, и мы ехали дальше, почти четыре километра, среди полей с зелеными всходами – в Житне-Горы. А когда в самом конце лета возвращались той же дорогой домой, на Волгу, видели по сторонам уже созревшие золотые колосья, а то и жнивье.
Иногда дед по дороге подсаживал какую-нибудь, всю в узлах и тюках, бабу, и начинались рассказы-пересказы, и жалобы слезные на жизнь «не как у людей», доходило и до ругани на самого «чоловика»…
– Цыц! – словно сплевывал дед в пространство, и баба умолкала и уже мирно поглядывала на нас, и по головкам поглаживала, и пряниками одаривала. Это деду тоже не нравилось, но – молчал, не одергивал, не спугивал моего предчувствия будущих стихов.
Шлях накатан – долог путь,
Села баба отдохнуть
При дороге, под кусток,
Развязала узелок:
«Дай-ка малость посижу,
На гостинцы погляжу.
Малолетке-дочке – бант,
Парню – к дудке барабан,
Деду – новые очки,
Для свекрухи – рушнички.
Самому-то, вишь, на славу
Прикупила я отравы –
Золотистый мундштучок,
Заграничный табачок.
А себе-то ничего…
Ну и что же из того?
С парнем в дудку погужу,
Доче бантик повяжу,
Посмеюсь со стариком,
Оботруся рушником,
Погоняю мужика:
Не кури, мол, табака!
Шумно станется в избе,
Вот и спраздную себе».
Мама иной раз, посмеиваясь, говорила:
– Иди, покрути деду усы!
Это я делала с удовольствием: забиралась к старику на колени и с озорной опаской дергала кончики его длинных висячих усов, а он только жмурился, терпел.
Дед Кондрат вообще был молчуном. Даже когда приходили гости, он тихо сидел на лавке, пока не позовут к столу. Отец сколько раз просил:
– Батько, поговори с детьми, поучи уму-разуму!
– Нехай сами будут, – был ответ.
И мы были «сами».
Мне иногда говорят: «И что бы с тобой, поэтесса, было, если бы не 17-й год! Гусей пасла бы в деревне…»
А я и вправду пасла. Тетя Настуня заворачивала нам с братом в чистый рушник по куску житного хлеба с салом, укладывала в торбу бутылку с водой, и мы отправлялись – гуси впереди, мы, с опаской, позади, за село, на зеленую гусиную траву у речки: куда гуси, туда и мы. Такое одно только место над Росью было – высокое, где местами в речке и песок виднелся на дне, не один только ил чернущий.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: