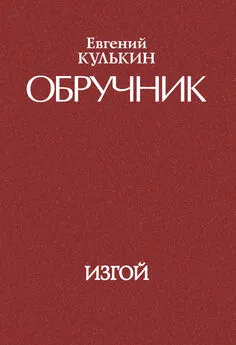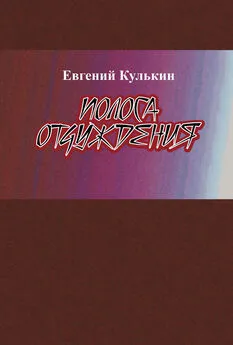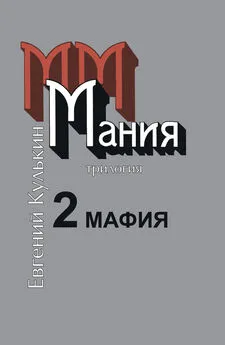Евгений Кулькин - Знай обо мне все
- Название:Знай обо мне все
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2008
- Город:Волгоград
- ISBN:978-5-9233-0716-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Кулькин - Знай обо мне все краткое содержание
Роман состоит из отдельных повестей, которые, в свою очередь, составили письма, адресованные к той, перед кем тянет исповедоваться.
Знай обо мне все - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Вскоре жизнь моя стала раздваиваться на детство и взрослость. Взрослым я чувствовал себя, когда с мальчишками – основательно – играл в войну. На своем огороде установил я на козлах, на которых пилят дрова, кусок водосточной трубы, по замыслу моему, как конструктора, игравшую роль орудийного ствола. С одной стороны насыпал горсть золы и, закрыв глаза, дул. Из трубы вылетала пыль, похожая на дым, и тут же я бил громадной кормовой свеклой в медный таз. «Крепость» моя целый день оставалась неприступной. А ночью, когда рукам и ногам не дают стухнуть ципки, я шарил под подушкой и находил там пряник. Сонно жевал его, вспоминая маму не с бельевой веревкой и ремнем, а с целым решетом мороженых. Почему-то тогда изобилие измерялось мною решетом.
Это было детство.
Если на «фронте» наступало перемирие или объявлялся перерыв, мы спешили к Арестантскому колодцу, обязательно пили из него, хотя минуту назад, совершив летучий набег на попутную бахчу, съели по палому – на душу населения – арбузу. Напившись, обязательно через Чертов мыс, спускались к омуту, где начиналось самое главное: испытание себя на смелость. Тут безусловными фаворитами были детдомовцы. Отцов-матерей им жалеть не приходилось, поэтому они с отрешенной бесшабашностью лезли в воду, топли. Их вылавливали сетями. Хоронили. Но приезжали другие, и все повторялось почти в одинаковой последовательности.
Мы же, к Дону вообще, а к омуту у Чертова мыса в особенности, относились с уважением и боязнью. Нет, на словах, конечно же, хорохорились. Даже искренне спешили скорее спуститься к берегу. И тут наступал трусливый паралич. Сперва он поражал глаза, которые не могли вынести отрешенного спокойствия великой реки, и надолго останавливались, чтобы дать нам возможность вспомнить улыбки и всякие ухарские слова тех, кто смирненько уплыл в лодочках-гробиках мимо Воскресенской церкви к Нагорной. Потом становились непослушными ноги. Кажется, не ими ты только что гонял тряпичный мяч и на них нет живого места от футбольных доблестей. Сейчас наши ноги становились точь-в-точь, как у сторожа «Заготзерно» деда Леони. К окну, которое мы рассадили идя на купалку, он дошел, когда мы уже возвращались обратно. Душа была последней каплей в чаше нашей трусости. Она становилась тяжелой, как камень, потому – нырни с ней сейчас – выплыть уже ни за что не удастся.
В тот день было все, как я только что рассказал. Подлетели, обгоняя друг дружку, мы к берегу, поснимали на ходу рубахи, у кого они были, и застыли глазами, «Что-то не климатит», – сказал Вовка Селиван, что на языке нашей улицы означало: вода нынче холодная. «Глянь, где она там?» – держась за Вовку, поднес пятку к моему подбородку Федька Клун, прозванный так потому, что в первом классе написал так слово «лунь». Пятку он показывал, утверждая, что где-то «в центре, ближе к краю», елозит заноза. А какой же пловец с занозой? Матвей Рыбаков, или просто Мотька Рыбак, вымудряться не стал, а честно признался: «Чего-то я ныне боюсь». Я хохотнул. Можно было подумать, что он вчера или позавчера не боялся. Из нас никто еще не плавал через Чертов омут. Только дергались возле воды и самое большее забредали до колен.
Я не знаю, что со мной произошло. Не мог объяснить я это и на второй день, и через неделю. Но только я, сам того не сознавая, нырнул. А когда понял, что душа-камень не утянула меня на дно, поплыл. Саженками. Почему-то не крутило. Только берег, от мотания туда-сюда головой, кидался из одной стороны в другую. Сзади я слыхал дишкан: ребята улюлюкали, словно я был зайцем, по следу которого выпустили стаю борзых. У меня уже несколько раз иссякало дыхание, темнело в глазах, становились неподъемными руки, но на каком-то непостижимом упрямстве я продолжал плыть. И когда до берега осталось два или три шага, попробовал стать на ноги. И окунулся с головкой. Дна не было, и я почувствовал, что тону. Не было силы выплыть и воли, чтобы заставить себя думать, что же делать? Я до сих пор не знаю, как очутился на берегу. Меня долго – до зеленки – драло. Потом я целую вечность плелся вдоль берега до переправы. По пути мне встретилась лесная бахча с крупными – в накат – арбузами. Но я даже не взглянул на них, и бахчевник, понявший, что не реагирую на его крики, сокрушенно сказав: «Никак, глухой», сорвал мне «первую метку» и поманил пальцем. Но я махнул рукой. Я испытывал чувства, которые, много лет спустя, придут ко мне, когда я буду безуспешно пытаться переплыть море водки.
Дома была всеобщая радость. Нас переселяли из подвала в кирпичный дом на три семьи, и нам достались комнаты окнами в сад. После ботинок, чириков и галош, которые мельтешили перед глазами, когда мне вздумывалось посумерничать у окна, теперь высвечивали сквозь листву ничейные яблоки. А за яблонями – в другом – уже хозяйском – саду – манили бергамоты. Я их тут же присучился снимать орудием, которое у пацанов носило название «дикалка». Это палка, на конце которой делалась расщелина, куда вставлялась палочка-поперечница. Когда бергамотина оказывалась внутри расщелины, нужен был рывок, поперечинка выскакивала, и «улов» медленно переползал в ничейный – а теперь уже мой – сад. Не помню точно, на третьей или четвертой бергамотине, когда я, увлекшись охотой, забыл о мерах безопасности и о том, что тот сад был соседским, вдруг оказался надежно пойманным за ухо. Думал – это мама или отец. Хотя, правда, хватка незнакомая. Я скосил глаз и увидел бороду. Это в наш дом приехал из Москвы профессор и, поняв, что на его глазах творятся «деяния, предусмотренные…», – он был профессором права – и немедленно избрал меру пресечения, не трактованную ни одним из советских законов. Ему – чуть позже – я об этом сказал. Но «дикалку» он изломал и сообщил мне, что бергамоты я воровал у одинокой старушки, сын которой погиб, защищая таких олухов, как я. Мне хотелось ему сказать, что меня можно было не защищать, поскольку в ту пору я еще не родился.
Профессор – а его звали Викентий Валерьянович, – оказалось, приезжал сюда каждый год. Снимал комнату, в которой теперь жили мы, ловил рыбу, купался, плел из краснотала корзины. Этот навык он получил в детстве, когда еще не помышлял быть профессором, и потому для начала стал лаптеплетом. Корзины он плетет потому, что не из чего в нашей местности плести лапти. А может, незачем. У нас главная обутка – чирики.
Теперь профессор жил у Александры Васильевны. Была она робкой как мышь и безликой, словно стершаяся «трюльница»: и вроде герб видать, и не прочтешь, что на нем написано. Она – учительствовала. А вечерами – пела. Голоса у нее не было. Но Александра Васильевна так старалась, и даже мне неудобно становилось, что у нее ничего не получается.
А Викентий Валерьянович, в котором еще лаптеплет не превратился в профессора, открыто восхищался ее пением. Даже звал ее: «Мой соловушка».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: