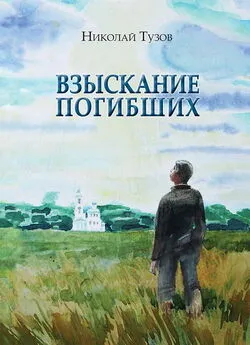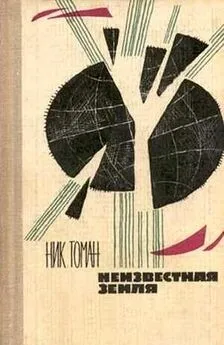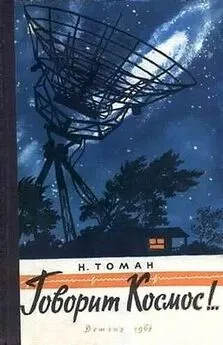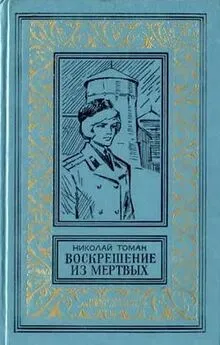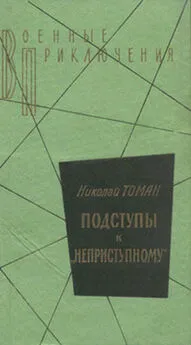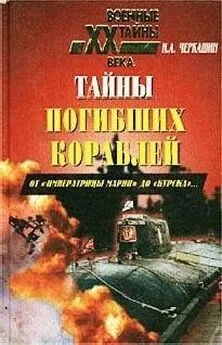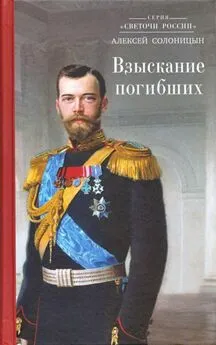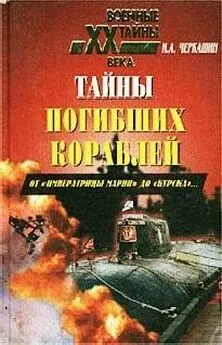Николай Тузов - Взыскание погибших (сборник)
- Название:Взыскание погибших (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2019
- Город:М.
- ISBN:978-5-6042575-0-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Тузов - Взыскание погибших (сборник) краткое содержание
Взыскание погибших (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Подписи нет.
– И не может быть! Иконописцы не подписываются! Они считают, что их рукой Бог двигает, так что хорошая икона – это заслуга Всевышнего. Ну, это я тебе просто передаю то, что знаю об иконописи. А как историку искусств, мне очень интересно, кто написал икону. Конкретно эту…
Николай снова прилип к увеличительному стеклу. Андрей позволил себе широко улыбнуться, зная, что не будет застигнут врасплох. Он любил Николая, хоть они и не были близкими друзьями, да и виделись нечасто. Но если и был в жизни Андрея кто-то абсолютно светлый, преданный своему делу и добродушный до крайности, то это – Коля-художник. Он работал реставратором в лучшей мастерской России, а также писал книги о живописи второй половины XIX века, читал лекции в престижных вузах, ездил по всему миру и… умел радоваться жизни. Каждый раз, слушая Николая, Андрей удивлялся тому количеству приятных сюрпризов, которые преподносила ему жизнь. Или… он просто умел их замечать?
Мало кто из окружающих Николая людей знал, какие испытания выпали на долю этого невысокого узкоплечего живчика! Его мать двадцать лет была парализована и требовала постоянного ухода. Страдания превратили бедную женщину в злобное существо, полное зависти к здоровым людям и горечи по поводу своего положения. Но ни разу Николай не пожаловался на мать. Её смерть, случившуюся лет восемь назад, Николай переживал так сдержанно, что окружающие даже не догадывались о его горе. И тут настигла новая беда: у его дочери проявилось психическое расстройство. Николай снова молча держал удар, скрыв свои чувства. Может быть, поэтому его профессиональная радость была так приятна Андрею – пусть Николай порадуется и как можно дольше не вспоминает о горестях.
– Конечно, икона писана по канону, хорошей темперой. Вот тут, на участке с синей краской – слоев двадцать, не менее. Ты в курсе, Андрюша, что синий цвет на иконах – это редкость? Но я все-таки вижу руку светского художника, не монаха, который пишет иконы одну за одной и ничего более не может и не хочет. Здесь – другое… Тот, кто писал этот список, пришел к иконописи по велению души, у него есть какая-то история. Ах, как интересно!
– Сколько времени займет реставрация?
– А сколько ты можешь дать?
– Нет, я не ограничиваю, просто люблю знать перспективы.
– Ну, по-хорошему, мне надо месяцев шесть-восемь.
Николай бросил на Андрея тревожный взгляд – согласится ли?
– Да пожалуйста! Хоть целый год.
– Отличненько! – Николай просиял. – А я тебе за терпение добром отвечу. Постараюсь узнать об иконе все, что возможно. Паспорт реставрационный оформлю. И, если ты не против, я об этой реставрации подготовлю отчет для коллег. У нас будет конференция через год, и я там представлю эти данные.
Энтузиазм Николая не знал границ! Андрей ушел из его мастерской довольный и вдохновленный, но с ощущением разлуки. Икона уже успела прикипеть к его сердцу.
Поздно вечером, когда Таисия отправилась спать, Андрей сел за свой рабочий стол и открыл тетрадку с записями бабушки. Воспоминания Марии Дмитриевны интересовали его чрезвычайно. Сам он прабабку едва помнил. Она была очень старенькой и погруженной в свои мысли, а он – слишком молодым и направленным во внешний прекрасный мир. Точек для соприкосновения было немного. Сейчас он восстановил в памяти только ее профиль – открытый высокий лоб, чуть удлиненный прямой нос, линию рта с небольшими заломами, идущими от уголков губ, упрямый подбородок. Помнил Андрей и ее руки. Кисти с узкой ладонью и немного расширенными кончиками пальцев. Кожа на руках была молочно-белая безо всяких пигментных пятен. Эти руки так много умели, но в них было так много усталости!
Рукопись начиналась просто:
«Мария Дмитриевна Зубова, урожденная Опарина, 1876 года рождения.
Родилась в селе Старый Ильмень Казанской губернии.
От ее имени записала дочь Екатерина Васильевна.
Во имя Божьей Матери и ради сохранения памяти хочу оставить то, что знаю о нашем селе. Также хочу рассказать о спасении святой иконы Богородицы «Взыскание погибших». Это самое важное, что я сделала в своей жизни. И как бы ни было мне страшно иной раз, как бы не хотелось отбросить эту ношу, я смогла удержаться, но только потому, что икона сама хотела быть спасена, чтобы приносить людям душевное спасение, защищать от уныния, сохранять веру. Гордиться себе позволю только тем, что именно мне выпала роль хранительницы святыни. А каждому из нас испытание выпадает согласно его силам. Знаю и верю, что дочь моя и потомки наши тоже смогут выдержать любые невзгоды ради спасения этой иконы. Завещаю им это и молюсь за них.
О селе нашем, Старом Ильмене, я помню больше всех, кто здесь живет, так как отметила свое столетие, и все события за этот век случились на моих глазах. Верю всей душой, что Ильмень – особое место, где живут особые люди, потому что «Взыскание погибших» попало именно к нам. Наверное, Бог хотел дать нам особую опору в трудные времена. Я в это верила и молилась пред иконой Богородицы не только за себя и детей, но и за моих односельчан, а то – и за всех людей в мире, так как зла в нем много и горя много.
Я не образованна, только в приходской школе при церкви поучилась, но знаю, что все неправое творится, когда люди теряют веру. Они думают, что теперь все, ими сотворенное, будет идти на их пользу, а о плате за причиняемое зло не думают. Но потом приходит тот миг, когда Бог возвращает нам то, что мы заслужили своими делами и тогда уже поздно просить прощения. А вот для людей искренне верующих, скромно молящих об избавлении, есть заступничество Богородицы и через это – прощение Бога. Вот для чего я хранила образ Матери Христа «Взыскание погибших».
Что же касается нашего Старого Ильменя, то помню я наше село вольным и богатым. Когда-то у нас был помещик, но потом крестьянам дали волю, и люди стали жить свободно. Когда я была маленькой, все у нас жили хорошо. Растили хлеб, лен, ягоды в лесу собирали и грибы. В каждом дворе была корова, а то и две, козы, куры. Моя мать пряла из козьей шерсти, а пряжу в городе продавала. Ее хорошо покупали – белая, чистая, нежно пахла ягнятами. Но чаще в город батя ездил – он был бондарем, то есть, набивал бочки. Набьет с десяток – и в город везет. В господские дома, на винокурню, а остатки – на ярмарку. Мы хорошо жили, но старшие нам, детям, говорили, что добро Бог дает за то, что мы его почитаем, а также – за трудолюбие и правильную жизнь. В это верю и сейчас.
После рождения я была крещена в церкви Святой Троицы, которую тогда только построили на месте молельного дома. Тот дом я уже не видела, а мама говорила, что был он маленьким – люди приходили на службу и во дворе попа слушали, так как все в дом не вмещались. Новая церковь была деревянная, большая, как господский дом бывшего нашего помещика Юсуфова, искусно выстроенная, а купола раскрашены в голубой цвет и украшены золотыми звездочками. В ней была церковная серебряная утварь, подаренная женой Юсуфова, а также несколько икон. Сельчане любили эту церковь, но в 1877 году она сгорела. Пожар случился только в ней, в селе не сгорело ни одного дома, а причина, наверное, в том, что служка не усмотрел за горящими свечками. Он должен был следить, чтобы свеча до конца не догорала и на пол не падала. Служка тот бежал из села, поэтому люди признали его виноватым. Приезжали из города начальники, спрашивали, кто, мол, в ответе за пожар? Но мы говорить про служку не стали. Тут осталась его мать – каково бы ей пришлось, кабы его признали виновным да в кандалах на каторгу отправили?..
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: