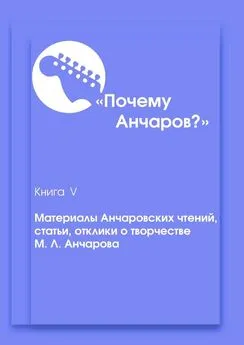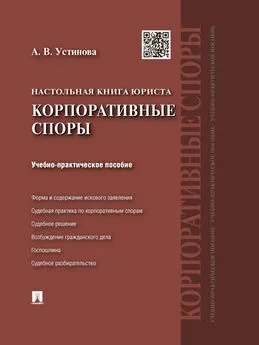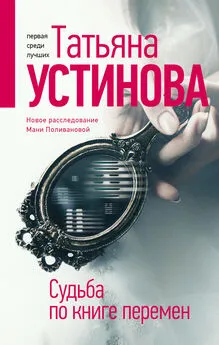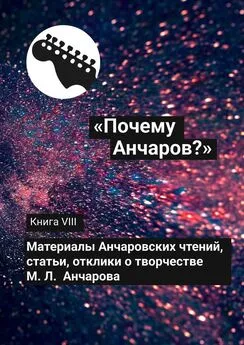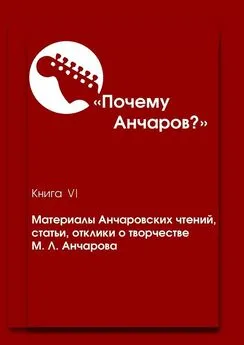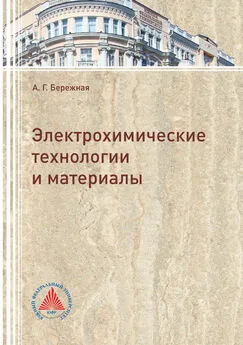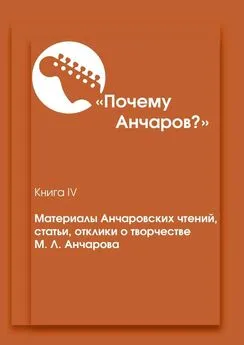Александра Устинова - Почему Анчаров? Книга 5. Материалы Анчаровских чтений, отзывы и рецензии на творчество Михаила Анчарова
- Название:Почему Анчаров? Книга 5. Материалы Анчаровских чтений, отзывы и рецензии на творчество Михаила Анчарова
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449619389
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александра Устинова - Почему Анчаров? Книга 5. Материалы Анчаровских чтений, отзывы и рецензии на творчество Михаила Анчарова краткое содержание
Почему Анчаров? Книга 5. Материалы Анчаровских чтений, отзывы и рецензии на творчество Михаила Анчарова - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Прекрасно, что в огромной, хорошо сделанной книге с цветными иллюстрациями нашлось место справочному аппарату – и указателю имён (что редко сейчас бывает), и библиографии, но имело бы смысл по образцу ЖЗЛ сделать и краткий календарь событий жизни героя. Это, впрочем, придирка.
Особый раздел авторы посвятили взаимоотношениям Анчарова с теми, кого принято называть «бардами». Слово это неловкое, понятие расплывчатое, но уж какое есть. В биографии Анчарова фиксированы воспоминания десятков людей ближнего круга.
Забегая вперёд, я скажу, что эта книга хорошая и полезная, и другой об Анчарове вам никто не напишет, потому что мы имеем дело с очень интересным феноменом. То есть с интересным человеческим фактором, который я встречал только в узком кругу фантастов и любителей авторской песни. Они оказываются более яростными и дотошными собирателями информации о своём кумире, чем меланхоличные историки и филологи.
Но в этом и заключена оборотная сторона таких исследований. Собиратель часто поступает на манер Плюшкина: ему жаль расставаться с найденным эпизодом, чьим-то наблюдением, фразой или развёрнутым воспоминанием. Он сохраняет всё.
Однако от этой рачительности повествование разбухает, и стороннему читателю сложно воспринимать слова не всегда отличимых на слух и цвет очевидцев. Человек вовлечённый, член того самого узкого круга, относится с пониманием к этой подробности, а вот сторонний читатель начинает скучать. Где баланс ценности повествования для внутренней аудитории и для внешнего мира – мне неизвестно.
Авторы зачем-то два раза, с разницей в двести страниц, приводят такую цитату из книги Анчарова: «Когда однажды он очнулся и увидел, что выброшен на грязный заплёванный пол пустой комнаты своей бывшей квартиры – без дома, без семьи, без денег, без работы, без перспектив, без положения, без сил, без желания работать, – и только тогда стало ясно – или сейчас, или никогда. Надо писать. Созрело.
Это случилось через семнадцать лет после того сна…» Цитата интересная, но такие вольные отношения к объёму и приводят к тому, что книга увеличивается до шестисот страниц, превращаясь во внутренний мемориальный памятник.
Впрочем, авторы сделали ещё один интересный ход. Не только в комментариях, но и в авторских отступлениях они рассказывают и о биографии своего героя, и о жизни СССР в 1930—1980 годы.
Экскурсы в область быта, цен, жизненного уклада очень важны. Тут я на стороне авторов, потому что, во-первых, сам применял этот просветительский приём, а, во-вторых, время стремительно, и не то что внукам, а детям приходится объяснять, что почём и как была устроена жизнь.
Эта мелкая моторика быта очень важна тем, кто следует за очевидцами.
Но тут есть и подводные камни – если ступить на неблагодарный путь просветительства в этих мелких, но важных деталях, то придётся быть точным везде.
Вот авторы цитируют слова Анчарова: «А кончается песня цитатой извсем известной песни „Любимый город“, потому что эта песня была тогда у всех на слуху. Это из кинофильма „Истребители“, пел её Бернес», а потом продолжают: «Отметим эти слова – „одна из первых человечных песен“. В войну произошёл странный и в рамках сталинской идеологии не вполне объяснимый разворот официальной песенной культуры от бодряческих оптимистических <���…> маршей к глубоко лирическим песням <���…>». Это совершенно справедливое наблюдение, только вот премьера фильма «Истребители» состоялась 20 ноября 1939 года, за десять дней до начала советско-финской войны, в те самые времена бравурных маршей. И год этот указан рядом в сноске.
Или авторы замечают: «Ставя в «Балладе о парашютах» в один ряд два наименования разных немецких подразделений («А внизу дивизии «Эдельвейс» и «Мёртвая голова»), Анчаров был неточен. Понятно, что названия эти были тогда на слуху у каждого, но это части принципиально разные. «Эдельвейс» – горные стрелки, то есть подразделение чисто армейское. И Высоцкий потом в песнях к фильму «Вертикаль» употребит это название в правильном контексте («И парень тот – он тоже здесь, / Среди стрелков из «Эдельвейс») – как противников наших горных отрядов, собранных и обученных, как мы знаем (см. главу 2), Николаем Николаевичем Биязи в 1944 году специально для противодействия этому самому «Эдельвейсу». А «Мёртвая голова» – общее название подразделений СС, которые несли охрану концлагерей и в боевых действиях на фронте участия не принимали, они осуществляли только карательные функции. Их зловещая эмблема (череп и скрещённые кости) часто необоснованно приписывается всем войскам СС, хотя среди последних были и обычные военные части, которые к главным преступлениям нацизма считаются, согласно определениям Нюрнбергского трибунала, не причастными. Но перечисление этих «дивизий» в одном ряду могло у Анчарова быть и вполне намеренным: таким образом он хотел показать, что те, кто сам преступлений не совершал, а только им содействовал, для него всё равно навсегда остаются врагами».
Ну, это всё вызывает искреннее недоумение. В природе вполне себе существовала дивизия «Мёртвая голова», созданная в 1939 году и позднее называвшаяся SS-Panzer-Grenadier-Division «Totenkopf». В 1941-м она воевала на Западной Двине, под Псковом, Лугой и у Москвы. В 1942 была под Демьянском, в 1943 – на южном фасе Курской дуги, в 1944 с ней дрались в Польше, а в 1945 – в Венгрии. Некоторые знатоки говорят, что тогда, перед сдачей союзникам в Австрии, она могла быть рядом с дивизией «Эдельвейс», но эту деталь имеет смысл оставить на обсуждение любителям военной истории. Здесь речь идёт о том, что просветительский пафос несовместим с неточностью, – она, как ложка дёгтя, портит неисчислимые объёмы мёда. Беда не в том, что авторы путают подразделения SS-Totenkopfverbände и дивизию СС «Мёртвая голова», а в том, что на этой путанице выстраивают целую картину мира с чужими заблуждениями и выводят за своего героя то, что «он хотел показать» и думал по этому поводу. То есть, может – думал, а, может, нет. В общем, маленькая ложь порождает если не большое, то некоторое недоверие.
Но все эти проблемы книги происходят не от безразличия к описываемой фигуре, а от чрезвычайной любви. Анчарова есть за что любить. Более того, его можно с большой пользой анализировать – к примеру, он создал совершенно особенный образ фронтовика, почти хемингуэевский (да только б видел этот американец нашу войну), то есть образ красивого человека спустя двадцать лет после падения Берлина (фронтовикам было тогда лет по сорок, даже по тем меркам – не старики). Это красивые люди, нравящиеся женщинам. Вот его герой в повести «Теория невероятности» говорит с незнакомой девушкой и учит её жизни:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: