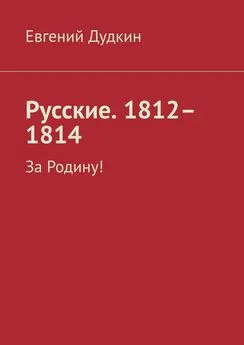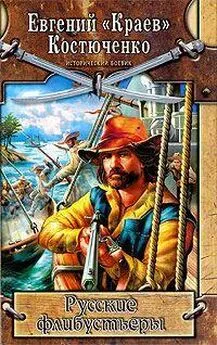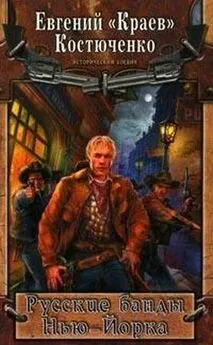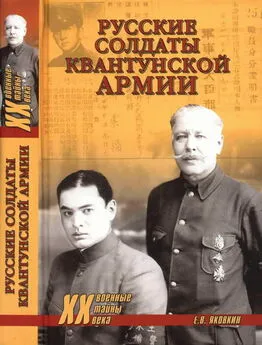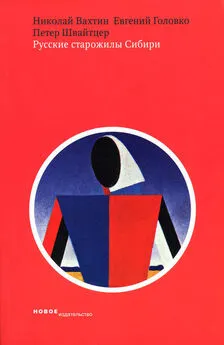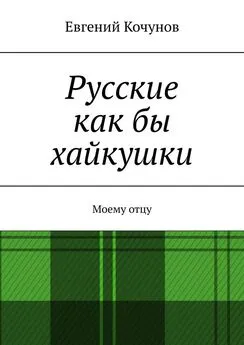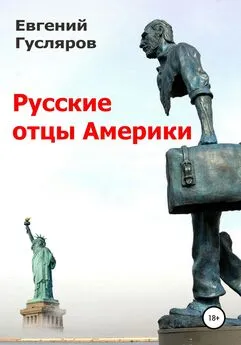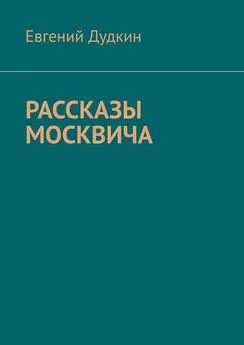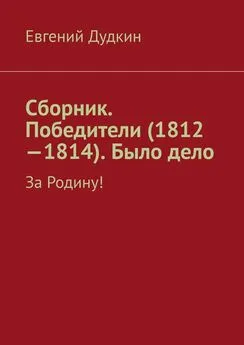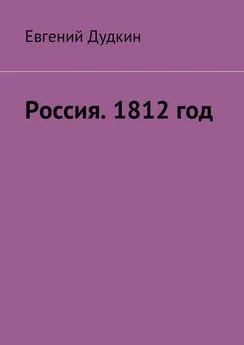Евгений Дудкин - Русские. 1812–1814. За Родину!
- Название:Русские. 1812–1814. За Родину!
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449317322
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Дудкин - Русские. 1812–1814. За Родину! краткое содержание
Русские. 1812–1814. За Родину! - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Еще под Смоленском рота Доборшина приняла в свои ряды» нежных рекрутов», как, посмеиваясь, солдаты называли двух особ женского пола – голубоглазую шестнадцатилетнюю Любу Звонареву и ее тетку Варвару Степановну, женщину крупную и строгую. Обе выходили из горящего Смоленска. Французская граната убила родителей Любы и спалила их дом. Тетка была вдовой, приживала в этом же доме у своего брата – отца Любы. Когда случилась беда, обе женщины собрали в узлы вещички, которые успели вынести из пожарища, и ушли из города вместе с армией. Через три дня они, смертельно уставшие и голодные, сидели у обочины дороги и безразлично взирали на проходившие мимо войска.
Полк остановился. Было приказано варить кашу и отдыхать. К женщинам подошли унтер-офицер Синицын, Доборшин, Жуков и Казанцев. Сопровождал их лохматый пес. Солдаты поздоровались. Синицын спросил:
– Куда путь держите, горемычные?
– Три дня уже идем. Из Смоленска к родне в город Гжатск – отвечала Варвара Степановна, – спасаемся от басурманов.
– А далеко ли этот Гжатск будет? Мы, вроде, туда же направляемся.
– Уж пол пути прошли. Наверное, не дойдем. Сирота вот, совсем из сил выбилась.
И тетка, плача, стала рассказывать о пережитом за эти страшные дни.
Солдаты слушали и у них темнели глаза и невольно сжимались кулаки.
Синицын подошел к поручику и попросил разрешения накормить несчастных.
Слышавший весь разговор, офицер распорядился накормить беженок и довезти их, если они не возражают, на обозной телеге до города.
Всеобщий любимец – ротный кобель, получивший от солдат, к неудовольствию Синицына, кличку Кузя, никогда не упускавший случая подраться с деревенскими собаками, а во время боя околачивавшегося в боевых порядках гренадеров и убегавшего в тыл лишь при близком грохоте артиллерии, сразу проникся теплыми чувствами к женщинам, взял их под свою опеку. Сперва он несколько раз лизнул Любину руку, а когда получил ответную ласку, весело замел хвостом. Он внимательно следил за проходящими мимо чужими, иногда даже начинал рычать и лаять. Снисходительно относился лишь к знакомым солдатам и особенно выделял унтера Синицына, по странному совпадению носившего имя Кузьма. Пес всегда ночевал рядом с унтером, с удовольствием выполнял его команды, угощение позволял себе брать только из его рук, все понимал. Одно время, пока обоим это не надоело, почему-то даже пристрастился сопровождать унтера, когда того прихватывала нужда. Солдаты ржали и втихомолку судачили – «скоро Кузя и Кузьма разговаривать начнут друг с другом.» Но мало кто знал, что любовь Кузи к унтеру возникла после того, как прошлой осенью Синицын вытащил этого бродячего пса из-под еще неокрепшего льда, куда, направляясь в соседнюю деревню к своим дружкам и подружкам, тот провалился, неосторожно перебегая речку.
С появлением женщин хвостатый Кузя на время оставил тезку. Кузя на удивление не пришел к своей глиняной миске с кашей. Унтер даже стал слегка ревновать. Считая, что никто не видит, незаметно для женщин он похлопывал рукой по своей мускулистой ляжке и манил кобеля рукой, округлял глаза, улыбался, даже слегка посвистывал. Кобель туманил грустью свой взор, но не шел. Не помогла и здоровенная кость, показанная ему Кузьмой по совету Казанцева.
Унтер подошел к женщинам. Посматривая на пса, спросил:
– Поели?
– Спасибо, служивый. Кашей накормили. Слава богу. Даже, вот, собачку угостили – Варвара Степановна потрепала ухо Кузи.
– Наш командир разрешил подвести вас на телеге, если вы, конечно, не против. Отдохнете, а там видно будет. Вы ведь в Гжатск идете?
– Туда. Ой, спасибо, родимые. Обузой не будем. Еду вам сготовим, бельишко постираем, если надо.
Кузьма под наблюдением пса усадил беженок на телегу, протянул им пол каравая хлеба, кусок сала. Фурштатному наказал особенно не трясти.
Прозвучала команда строиться. Полк двинулся на восток. Рядом с Синицыном привычно рядом бежал Кузя, гордо поглядывавший на своего доброго хозяина.
Прошли Царево-Займище, потом покинутый жителями Гжатск. Как-то само-собой получилось, что Люба со своей теткой стали своими, занимались хозяйством в роте, чинили и стирали солдатское белье, научились на костре готовить еду и даже одним своим присутствием повышали у солдат и офицеров настроение. Батальонное и полковое начальство как бы их и не замечало – было полно других забот. Правда, командир батальона как-то на привале намекнул своим орлам – «беженок не обижать, а то шкуру спущу.» Мог бы и не говорить. Каждый солдат стремился словом и делом угодить Любе и ее тетке. А те уже и привыкли к армейской жизни, а уходить было некуда и не к кому.
_________
Казачий полк арьергарда генерала Коновницына, в котором служил есаул Кузнецов, последние дни проводил в постоянных стычках и боях с наседавшими французами. Два дня они простояли у Гжатска, а затем навалились на арьергард русской армии. Когда 24 августа показались колокола Колоцкого монастыря и казаки отбивали яростные атаки кавалерии корпуса генерала Груши и пехоты Богарнэ, основная армия уже располагалась на бородинских позициях. Было необходимо дать ей время на постройку укреплений и размещение войск, позволить принять подходящие из тыла полки Московского ополчения (Москва вообще в 1812—1814 годах выставила 72 тысячи ополченцев или почти четверть всех русских ратников, Тула и Калуга – по 16 тысяч, С.-Петербург – 15 тысяч).
С запада грозно надвигались колонны неприятельской пехоты и кавалерии. В лучах солнца живописно сверкали латы, каски, колыхались знамена, рябило в глазах от разноцветных нарядных мундиров. Некоторые колонны шли с музыкой под барабанный бой. Впереди катились цепи стрелков и легкая кавалерия. После Гжатска французы стали заметно торопиться – манила Москва, а там и конец победоносного похода. Так говорил император и армия ему верила.
Французы наседали как никогда раньше. Русские егеря отстреливаясь, откатывались к стенам монастыря и дальше. Поддерживающие их казаки в пылу ожесточенного боя нередко теряли позиции, перемешивались с уланами, гусарами, драгунами, бывало стреляли и по своим. Не было никакой возможности отдышаться. Бились уже не полком и не сотнями, а отдельными группами. Лишь благодаря невозмутимости Коновницына порядок восстанавливался и перед французами снова возникала непробиваемая стена русских.
Вот и сейчас, после злой сшибки с саксонским шеволежерским полком, казаки собрались, выдвинули на дорогу полуроту своей конной артиллерии и вместе с пехотой полк вновь был готов к отражению атаки.
С пригорка перед деревней Валуева в эскадронных колоннах стали сползать вниз французские кирасиры, а за ними – итальянские конно-егеря. Набирая ход и не обращая внимания на град пуль кавалерия приближалась к русской батарее. В этот момент ей во фланг ударил второй батальон Изюмского гусарского полка. Гусары, одетые в красные доломаны с накинутыми на левое плечо синими ментиками, похожие формой на французских гусар, врубились в ряды конно-егерей. Удар был неожиданным. За спинами кирасиров и поднятой ими пылью итальянцы не видели поле боя и не сразу рассмотрели атаку гусар. А когда поняли кто перед ними, было уже поздно. Гусары сразу смяли не успевших перестроиться конно-егерей, рубили саблями и кололи пиками, а затем и погнали вспять, полностью разгромив эскадрон 3-го итальянского конно-егерского полка.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: