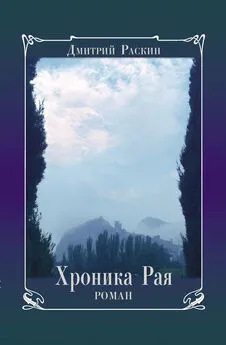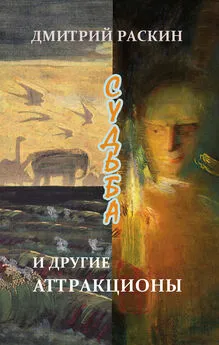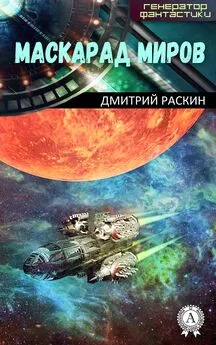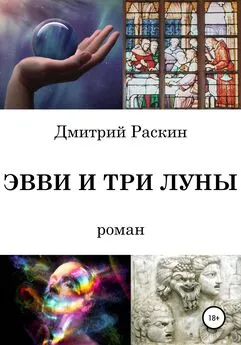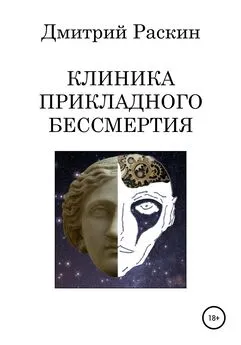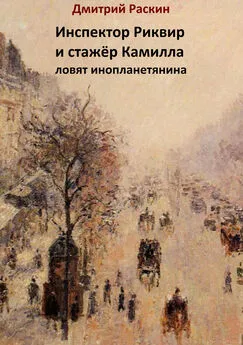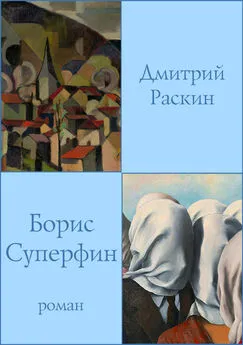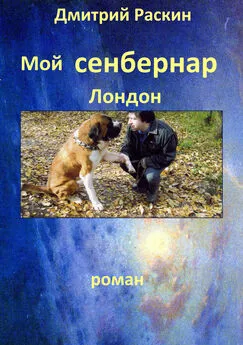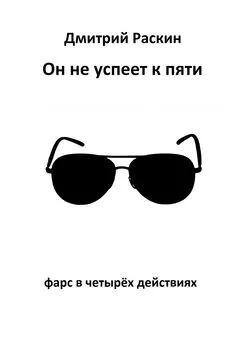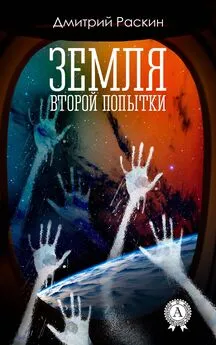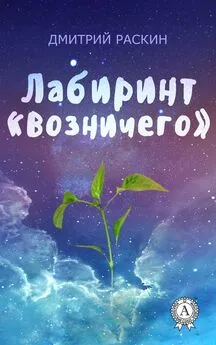Дмитрий Раскин - Хроника Рая
- Название:Хроника Рая
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Раскин - Хроника Рая краткое содержание
Дмитрий Раскин – писатель, поэт, драматург, работающий на стыке литературы и философии. Его книги выстроены на принципе взаимодополняемости философских и поэтических текстов. Роман «Хроника Рая» сочетает в себе философскую рефлексию, поэтику, иронию, пристальный, местами жесткий психологизм.
Профессор Макс Лоттер и два его друга-эмигранта Меер Лехтман и Николай Прокофьев каждую пятницу встречаются в ресторанчике и устраивают несколько странные игры… Впрочем, игры ли это? Они ищут какой-то, должно быть, последний смысл бытия, и этот поиск всецело захватывает их. Герои романа мучительно вглядываются в себя в той духовной ситуации, где и «смысл жизни» и ее «абсурдность» давно уже стали некими штампами. Напряженное, истовое стремление героев разрешить завораживающую проблематику Ничто и Бытия обращает пространство романа в своего рода полигон, на котором проходят пристрастное, порою безжалостное испытание наши ценности и истины.
Роман адресован читателям интеллектуальной прозы, ценящим метафизическую глубину текста, интеллектуальную мистификацию.
Хроника Рая - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Оно творит Справедливость, утверждает Мораль, но, самое главное (по Ораму), побеждает зло.
Исус любит заблудившегося во тьме XX века, ужаснувшегося бессмысленности Истории человека. Из любви к нему он не будет потворствовать его безумствам: будь то даже требование торжества Добра. Нравственный абсолют Орама – Добро. Это Добро Христа, а не Великого инквизитора, но оно противопоставлено любви. Противопоставление это коренится в неудаче самой любви, в неудаче дела любви Христа. Нравственный абсолют Христа вне любви (независимо от «удачи», «неудачи» любви) бессмыслен – это истина любви Христа. Любовь заведомо не поддается идеологизации. Идеологизировать можно лишь «дело любви».
Булгаковский Левий Матвей проклинает Бога за то, что Он не дает легкой смерти Иешуа, не избавляет его от непосильных страданий. Бунт любви против Бога-отца. Бог не правит этим миром? Если не правит, если Его нет, то законы Добра и Зла (а они есть! И роман Булгакова, в частности, посвящен доказательству этого) держатся чем-то иным. Это не вывод, скорее начало поиска. Держатся злом? Вовсе нет. Воланд не держит, не управляет. Он лишь указует на наличие этих законов. Может, законы эти держатся ни-на-чем} И Воланд опять-таки указует на это? Бог не может указать по своему статусу. Может быть, это ни-на-чем из Его непредсказуемой и страшной глубины, что за тьмой и светом (я позволю себе вольно обойтись здесь с романом, но все-таки не совсем уж назло контексту) или же из глубины Его отсутствия, что лишь в какой-то мере, точнее, до какого-то только уровня может быть способом Его бытия? Но мир тогда сложнее и страшнее, истина и свобода глубже и безысходнее, чем в случае опоры Веры, Любви и Добра на Абсолют.
Попечители слушали очень внимательно. Факультетская дама перестала записывать в свой блокнот.
– Иешуа Га-Ноцри – Булгаков отодвигает в сторону все, что связано с Богочеловеческой природой Христа. Он не Бог-сын здесь. Нет и учения. Только: о царстве истины и: все люди добры (самое, казалось бы, уязвимое)… Убрано божественное, убрано эсхатологическое, убраны буква и догма, телеологическое и этическое (сравним: Лев Толстой убирал из религии все во имя этики). Только личность Иешуа. Обаяние личности, несущей доброту – даже не Добро, а доброту, но она, в отличие от Добра не поддается идеологизации. Иешуа – личность, способная разбудить мысль и душу. И опять ничего о Боге-творце. Вновь вернемся к лагерквистову Агасферу: «…за всеми богами, за всей святой шелухой… подлинное, святое, недостижимое… жажда пить из этого источника, понимая, что ему не дотянуться и что, если бы дотянулся, то увиденное, почерпнутое там ужаснуло бы… было бы непосильно». Человек трансцендирует Бога, обретая (?) свою последнюю безысходность, которая и есть его свобода, чистота свободы (?!) Есть ли в этом за то «подлинное, святое»? Дает ли эта безысходность истину? Не знаю. Во всяком случае, истина вне ее ограничена и подслеповата.
Иешуа для Булгакова, возможно, есть попытка выйти к тому, что за богами и божественным, но не через преодоление Бога, не через борьбу с Ним… здесь шаг в сторону – просто, без напряжения и надрыва.
Иешуа пробудил душу Пилата, жажду истины и отсюда совесть – Пилат дорос до Страдания, до того, чтобы Страдание выбрало его – непосильное ему страдание. Сравним: Воланд спас душу Ивана Бездомного, повернул его к поиску истины, вытащил его из писательского стада. Уберег от уготованной ему участи литературного генерала, этого привилегированного быдла, славящего Хозяина и потребляющего кремлевские пайки. Поиск истины делает Ивана учеником Мастера.
Иешуа заведомо, умышленно неканонический. Булгаков пытается выявить сущнейшее религии, которое не есть религиозное и тем более конфессиональное.
За Иешуа записывал Левий Матвей – путал, и эта путаница продлится долго. В путанице этой – истина (тоже истина!), ею, быть может, теперь и держится мир. Это истина Левия Матвея. И не надо иронии, не надо смотреть на нее, читать роман лишь «глазами» Воланда. Но это истина слова, в слове, из слова. Булгакова интересует то, что над словом, над истиной слова, над истиной религии и культуры. Иешуа говорит о путанице, но культура и дух и есть «путаница». «Путаница» эта не только истина, но, возможно, и цель культуры. Это не релятивистское всеприятие, но именно приятие истины и того, что над нею в их иерархии. Здесь открывается еще одна смысловая плоскость соотношения Христа и истины. К слову: истина, признающая то, что над ней и за ней, принимающая свой предел, и истина, «не видящая этого» – они разнятся по уровню рефлексии, по своему соотношению со свободой. Иешуа несет обаяние доброты, любви, свободной мысли – к этому можно идти через слово, но Иешуа дает основание, оправдание самому слову. Слово бессмысленно вне этого. Религия не имеет смысла вне того, что выше религии.
Теперь о споре Воланда и Левия Матвея. Истина Воланда: диалектика Добра и Зла во имя полноты, неисчерпаемости бытия. Левий Матвей видится ему ограниченным доктринером, готовым во имя добра, во славу голого света ободрать мир, лишить его теней, уничтожить краски. (Здесь смысловое пересечение с тем спором Великого инквизитора и Христа.) Но в словах Левия Матвея о софистике своего оппонента, в самом его нежелании спорить с Воландом, как представляется, есть намек на то, что полнота бытия не сводится только к диалектике света и тени (контекст сцены, во всяком случае, не исключает и такого прочтения, пусть оно и не совпадает с акцентами, расставленными самим Булгаковым). Да, диалектика Добра и Зла, но быть злом во имя диалектики?! Левий Матвей пришел к Воланду из света, а доктринеров и идейных фанатиков вряд ли берут в свет. Что несколько раздражает нас в Левии Матвее? Его отторжение даже частичной истины «оппонента», и не будем забывать, что мы здесь все же пристрастны, ибо, по воле Булгакова, мы любим Воланда.
В концовке романа Добро и Зло и их диалектика – все снимается в непостижимости метафизики, снимается как метафизически промежуточное. Так в дзэн и в дао: зло, добро – едины, несущественны перед Пустотой… Здесь речь, конечно же, не о синтезе, не о диалоге культур – разная эстетика мышления, не совпадают системы миропонимания… но это смысловое пересечение не случайно, ибо есть общность того сущнейшего, что не детерминировано цивилизацией и культурой…
И диалектика (Добра и Зла), и христианская эсхатология – всё частность… пусть они истинны, но как частность.
В эпилоге Воланд скорее уже не Сатана, а указующий на непостижимость метафизической реальности, на непостижимость порядка мира, в котором «все правильно» и от имени которого он выступает (теперь?!).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: