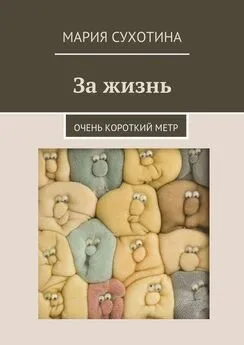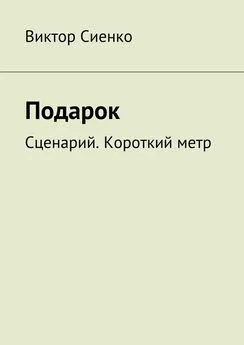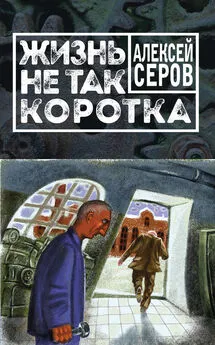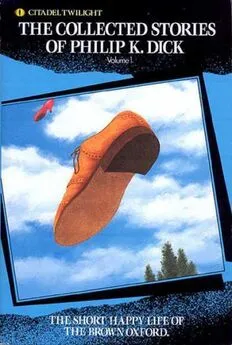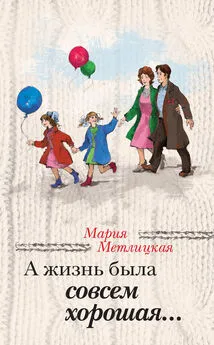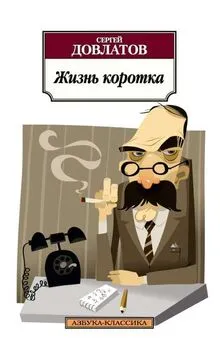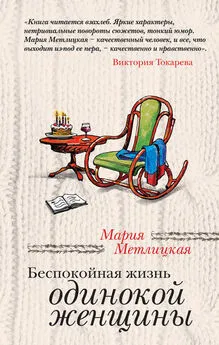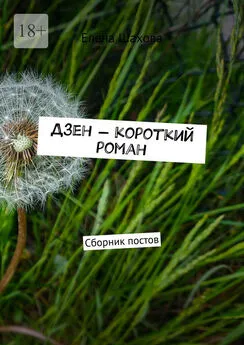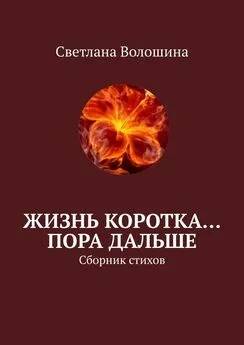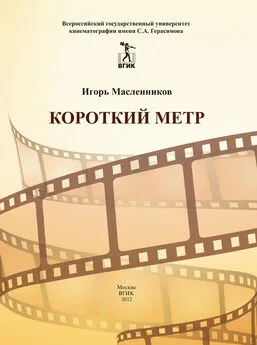Мария Сухотина - За жизнь. Очень короткий метр (сборник)
- Название:За жизнь. Очень короткий метр (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Ридеро»78ecf724-fc53-11e3-871d-0025905a0812
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-4474-0502-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мария Сухотина - За жизнь. Очень короткий метр (сборник) краткое содержание
Я люблю тебя, жизнь (и надеюсь, что это взаимно). Одно у нашей жизни не отнять: эту великолепную фактуру, которую она временами показывает и подкидывает. Некоторые вещи не придумать никакому воображению, и они прекрасны именно тем, что были. Что называется, ни прибавить, ни убавить, и пусть реальность говорит сама за себя.
За жизнь. Очень короткий метр (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В чем был секрет? Не в одних же босых ногах и перекурах – западная публика привыкла к эпатажу, видала звезд, которые выступают не то что без обуви, но и без штанов. В том ли дело, что Эвора была насквозь настоящей и вообще не знала слов вроде «эпатаж», «пиар» и «имидж»? Или же ее голос всегда передавал что-то очень простое, живое и человеческое, и чтобы это почувствовать, необязательно понимать тексты песен?
Может, иногда как раз лучше не понимать. Если не разбираешь слов, то не отвлекаешься на частности, и тогда кажется, что поют о нас всех вместе, и о каждом по отдельности. Вполне вероятно, что у Эворы любой находил что-то о себе – хотя пела она всегда о том, что знала и чем жила: о местах, про которые никто и не слыхал до ее появления.
Сюжет второй, философский
Острова Зеленого мыса (они же Кабо-Верде) долго были необитаемы. Португальцы открыли их в середине XV века и устроили перевалочный пункт для судов с рабами из Африки. Туда же стали ссылать каторжан и евреев. Колониальная политика породила население с невероятной смесью кровей (на Кабо-Верде попадаются чернокожие блондины с голубыми глазами), и язык, который словно бы «запомнил» всех насильно переселенных или просто занесенных судьбой на эти берега. Кабувердьяну – язык-креол, то есть гибрид, помесь. Он вырос из португальского, впитав десятки африканских наречий, подхватив фрагменты испанского, французского, английского.
В истории этой крошечной, искусственно созданной страны мне видится что-то очень символическое. Как будто от человечества отщипнули кусочек – образец тканей – и поместили в изоляцию, на обочину мира. При уменьшенном масштабе (количественном, пространственном, временном) с почти лабораторной наглядностью выступает то, что часто затенено отдаленностью мест, разницей эпох, пестротой людской массы. А именно: 1) все всегда повторяется, и не единожды; 2) не бывает абсолютного блага, как и абсолютного зла.
Так, на исходе XVIII века колониальный военный флот практически покончил с пиратством – а пираты Атлантики любили поживиться на островах Зеленого мыса. Сэр Френсис Дрейк дважды разграбил тогдашнюю столицу Рибейру-Гранде. Французские корсары тоже пошалили изрядно. Но ведь «джентльмены удачи» были еще и клиентами портовых баров, да как правило денежными и щедрыми (чего ж экономить, когда тебя того гляди зарежут или повесят?). Не стало их, и сократились доходы, причем по главной статье островного бюджета. Казалось бы: на морях покой, и все прекрасно – вот только есть нечего.
Дальше – лучше (или хуже, как посмотреть): в XIX веке заглохла работорговля. Сперва в Новом Свете выросли дети, рожденные уже в рабстве на местной почве, и потребность в привозных африканцах резко сократилась. Затем рабство отменили вообще, и в Кабо-Верде тоже. Но ведь колония создавалась именно как транзитная станция для работорговцев и их груза. Не стало этого «бизнеса», и метрополия практически потеряла интерес к островам, а статей дохода у них почти не осталось. Тут еще и очередная большая засуха… Казалось бы: свобода, живи и радуйся – вот только есть нечего.
Еще несколько десятилетий – и XX век, Первая мировая, в Европе ад. А на Кабо-Верде вдруг закипела жизнь: Британии и США пригодились местные базы для дозаправки судов и телеграфные станции. Много работы, приток денег… В общем, кому война, а кому мать родна. Вторую мировую пересидели тихонько, жалуясь разве что на засуху. А там – распад колониальных империй, обретение независимости. Но ведь эксплуататоры-португальцы все же были главными работодателями, администраторами и инвесторами. Не стало их, и экономика вообще вошла в «штопор». Казалось бы: суверенитет, верх мечтаний – вот только… см. выше.
И так – годами, веками: на отшибе, в катастрофической зависимости от «большой земли», но совершенно неведомо для нее. Как вдруг Эвора начала зарабатывать своими турне большие деньги и вкладывать их (практически все!) в бюджет страны, в школы, в больницы. И даже подтянулись кое-какие туристы – из любопытства, посмотреть на родину необычной звезды. Но материальный аспект здесь, может, и не главный.
Одна учившаяся в Европе землячка Эворы вспоминала: поначалу очень тяжко было объяснять одноклассникам, что такое Кабо-Верде и где это. Приходилось чертить рукой в воздухе Африку, тыкать пальцем рядом с этим контуром… Ей самой в итоге начинало казаться, что она никто и ниоткуда. Но через несколько лет, услышав «я из Кабо-Верде», люди стали кивать и говорить: а! Сезария Эвора! И это звучало как приветствие, как отзыв на пароль.
Сюжет третий, лирический
Конечно, то самое Кабо-Верде я тоже видела только на фотографиях Google Earth и в документальном фильме про Эвору. Главное впечатление: это даже не Третий мир, а какой-нибудь седьмой. Или двадцать девятый. Почти все и правда ходят босиком; воду вытягивают из колодцев крошечными флягами – видимо, они прорыты так узко и глубоко, что другой сосуд не пролезет. Страшно думать, сколько раз надо вытянуть такую флягу, чтобы набрать хоть одно ведро… Везде бурые камни и песок, из растительности – чахлые пальмы. Основа рациона – океанская рыба, и вокруг рыбного рынка вертится вся жизнь.
Говорят, абсолютно все кабовердийцы поют, и можно понять, почему. В таких местах – либо петь, либо утопиться. Но люди, которые так тяжело работают чтобы выжить, топиться не пойдут. Правда, охотно топят усталость в бутылке: алкоголизм – проблема государственного масштаба. И поют морны (которые по звучанию иногда неожиданно похожи на русский романс с цыганской примесью).
У морны протяжная, минорная мелодия и очень простые слова, которые повторяются много раз, видимо, пока певец не устанет. Темы и настроение большинства текстов можно передать креольским словом sodade . Им обозначают целый клубок переживаний: желание чего-то невозможного; тоску по прошлому, по родине, по человеку; предчувствие разлуки; осознание, что встречи может и не быть. В общем, я тебя никогда не увижу, я тебя никогда не забуду. Самая знаменитая песня, «визитная карточка» Эворы так и называется – Sodade. (Под эту песню ее и хоронили – многотысячной толпой, с почестями и салютом, покрыв гроб государственным флагом.)
Пожалуй, есть справедливость в том, что у «большого мира» морна теперь ассоциируется именно со звуком женского голоса. Это ведь прежде всего песня ждущих на берегу женщин. Тамошние мужчины всегда уходили от них в море – ловить ли рыбу, искать ли лучшей жизни – и далеко не всегда возвращались. А женщины оставались и вспоминали. Правда, если поинтересоваться сочинителями морн, находишь все больше мужские имена. Но и в этом распределении ролей видится житейская логика. Мужчина сочинял мелодию, напевал ее своей подруге, и уплывал. Оставлял женщине песню (и, как водится, ребенка). Женщина потом растила ребенка и бесконечно пела песню – что еще ей было делать.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: