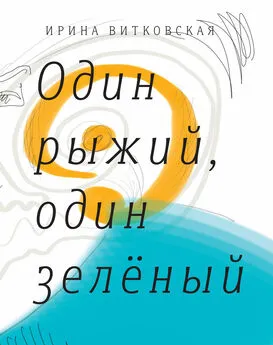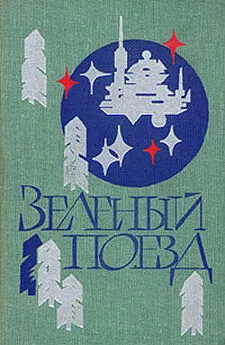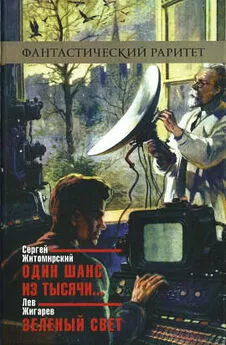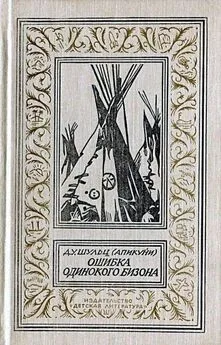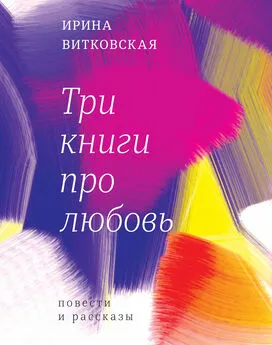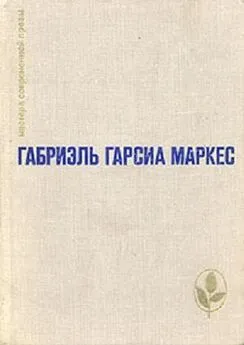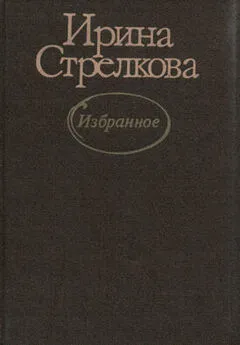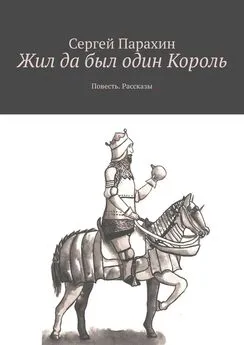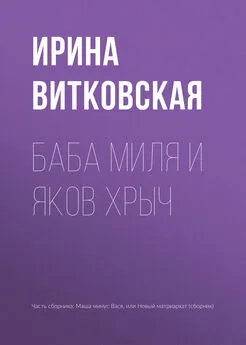Ирина Витковская - Один рыжий, один зеленый. Повести и рассказы.
- Название:Один рыжий, один зеленый. Повести и рассказы.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентВремя0fc9c797-e74e-102b-898b-c139d58517e5
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:9785969115941
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ирина Витковская - Один рыжий, один зеленый. Повести и рассказы. краткое содержание
Непридуманные истории, грустные и смешные, подлинные судьбы, реальные прототипы героев… Cловно проходит перед глазами документальная лента, запечатлевшая давно ушедшие годы и наши дни. А главное в прозе Ирины Витковской – любовь: у одних – робкая юношеская, у других – горькая, с привкусом измены, а ещё жертвенная родительская… И чуть ностальгирующая любовь к своей малой родине, где навсегда осталось детство. Непридуманные истории, грустные и смешные, подлинные судьбы, реальные прототипы героев… Cловно проходит перед глазами документальная лента, запечатлевшая давно ушедшие годы и наши дни. А главное в прозе Ирины Витковской – любовь: у одних – робкая юношеская, у других – горькая, с привкусом измены, а ещё жертвенная родительская… И чуть ностальгирующая любовь к своей малой родине, где навсегда осталось детство
Один рыжий, один зеленый. Повести и рассказы. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Пока все чинно идут по тротуару. Доходят до храма.
– Мару-у-усь… – тоненьким голосом говорит Иван и показывает глазами на сумку.
Маруся останавливается, лезет в неё, отщипывает две крошки и кладёт в рот брату и сестре. Себе – никогда (Господи, и как только выдерживала!).
Крошка до-олго тает на языке у того и у другого, превращаясь в восхитительную сладковатую жижицу, а потом раз-раз – стекает с языка и девается неизвестно куда…
Когда доходят до моста, наступает Раина очередь:
– Мару-у-усь…
Следующая крошка – у аптеки (Иван), потом у перекрёстка (Рая), потом у госбанка… Довесок волшебным образом заканчивался у входа во двор.
Во дворе кислица, калачики, паслён… Можно немножко побегать, «попастись». Это когда летом. А зимой… Зимой только ждать Марусю из очереди.
Подкармливала бабуня. Осенью сорок третьего она слегла: отнялись ноги. Бабуня лежала на своей кровати возле печки и смотрела, как на полу копошится и топает ребятня. Хлеб свой есть она совсем перестала: ломала на малюсенькие кусочки и складывала под перину.
И вот – то Рая, то Иван – сунутся к кровати, а кровать высокая, да перина толстая на ней: личики полупрозрачные как раз напротив бабуниного лица:
– Бабу-унь… Дай хлебца!
А бабуня и достаёт сухарик – одному и другому.
Бабуня умерла весной сорок четвёртого. Теперь Рая знает – от голода. Весь свой хлеб им с Иваном скормила. Как это видела и пережила мама – до сих пор в голове не укладывается. Сколько всего понимается только сейчас…
Наверно, бабуне это казалось естественным – умереть самой, чтобы внуки жили… И они выжили. Рае семьдесят восемь лет. Ивана, правда, уже нет – его жизнь оказалась более короткой. Марусе – восемьдесят четыре. Она самая старшая в большой беспокойной семье.
Она всю жизнь не может наесться хлеба. За каким бы богато накрытым столом ни оказалась, какие бы яства ни красовались перед ней, первым делом она вполголоса говорит Рае:
– Хлеба дай-ка…
И ну лупить – один кусок, второй…
– Да ты что, в конце концов, – не разжимая губ, понизив голос, чтобы не услышали окружающие, раздражённо говорит Рая, – пре-кра-ти, слышишь? Ешь вот: холодец, салат, колбаса. Икра!..
– Сейчас, сейчас, – отвечает Маруся и набивает рот третьим куском хлеба…
Рая замолкает. Грустно смотрит на меня и качает головой: ничего тут не поделаешь. В войну не доела…
Гитлер, Золушка и фата Моргана
Послевоенный Двор был на удивление густо населён детьми. Двадцать пять огольцов клубились, гоняя дворовую пыль, сидели в сумерках на брёвнах, пугая друг друга всякой чушью, заходились восторженными воплями, играя в казаки-разбойники, лапту, войну…
Изредка Двор вспоминал, что состоит из двух половин – девчачьей и пацанской. В эти редкие тихие дни одна половина чинно играла в ножички и расшибалочку у глухой стены дома, а другая – укладывала самодельных тряпичных кукол на чьём-нибудь крыльце… Сильная половина с руками в карманах широких штанов сосредоточенно вглядывалась в начерченные ножичком на песке сплетающиеся линии или в причудливо разбросанные монетки, лихо плевалась и обменивалась краткими солидными замечаниями типа «фарт!» или «жила». А девчонки в застиранных до полной потери цвета платьицах, с вычесанными частыми гребешками «с керосинчиком» косичками, голенастые, тощие, девчонки хором выводили:
В э-той ма-ленькой кор-зинке
Есть по-мада и ду-хи,
Ленты, кружево, ботинки,
Что угодно для души…
Бог мой, как будили воображение эти смешные строчки! Волшебная бездонная корзинка, вмещавшая в себя волны струящихся атласных лент – алой и небесной, трофейное мыло розового цвета, так пахнущее земляникой, что его хотелось съесть, изящные и блестящие патрончики помад, хрустальные флаконы, полные духов, рулончики нежнейших кружев, намотанных на картонки, какой-то волшебный «креп-марокен», в полусне услышанный в женском вечернем трёпе о предвоенном…
Всё это виденное мимолётно в кино, в каком-нибудь «Большом вальсе», или на примерке с матерью у модистки Осковой, или при разглядывании всем двором трофейных посылок в самом конце войны, трансформировалось в стойкие нарядные картины, укладываясь в вышеупомянутую маленькую корзинку… На хрустальные флаконы из-под духов, например, пялились в комнате бывших поповен особо посвящённые, допущенные брать у них книги, а мыло, вытащенное из трофейных посылок, многим удавалось даже подержать. Ах, как потом долго и восхитительно пахли ладони!
Справедливости ради надо сказать, что мальчишеские и девичьи игры происходили довольно редко. Двор, как правило, был монолитным, единым живым организмом, подчинявшимся давно выработанным законам и порядкам. Игры были силовыми, жёсткими, горластыми – в них не давалось скидки девчонкам, впрочем некоторые из них в плане напористости, выносливости и воли к победе дали бы фору кое-кому из пацанов.
Начать игру в войну без Севки-Гитлера было делом совершенно немыслимым. Запланированная на определённое время акция начиналась с маеты – надо было выманить Севку из дома. Каждые полчаса за ним «заходили»: посылали преимущественно девчонок, которые смотрели чистыми глазами на мать и спрашивали хрустальными голосами: «А Сева выйдет»? Польщённая и заинтригованная, мать с третьего раза насильно вытряхивала бубнящего Севку на улицу.
Неизвестно уж кто первым определил сходство Севки с Гитлером, но Двор с восторгом это сходство признал и устным дворовым законом закрепил. Хотя всего-то и было в нём, что косенькая чёлочка и тёмные глазки-бусинки, но для Двора этого оказалось вполне достаточно.
Севка всеми силами отрицал какое-либо сходство, ерошил по-разному волосы, но, в силу особенности линии роста волос, чёлка всё равно ложилась набок.
Итак, вытащенный насильно во двор Севка начинал с категорического отказа исполнять роль «этого гада». «Во-первых, ни шиша не похож, во-вторых, опять бить будете», – отчаянно надрывался он. Двор клялся, стучал себя кулаком в грудь, что бить ни в коем разе не будут, что это только игра, что только ещё один разок, а там Гитлером будет кто-нибудь другой… Улещали Гитлера с помощью самого бессовестного вранья, которое тут же моментально и вскрывалось, – в запале предлагали было самому набрать в отряд немцев, кого только захочет… В результате выбранные с возмущением отказывались и заглушали Севкино отчаяние горластыми воплями: «Канаться! Канаться!» Разбивались на две команды и канались на какой-нибудь палке или верёвке.
Зимой строили крепость и бились снежками. Летом использовали окоп, вырытый во Дворе в годы войны и густо заросший лебедой, выше человеческого роста. Бой шёл с помощью комьев земли, веток, палок и всего, что попадётся под руку. Ну и рукопашная, конечно…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: