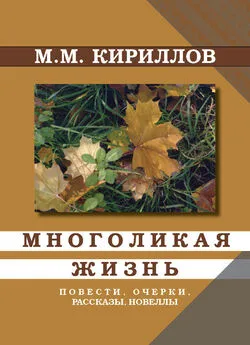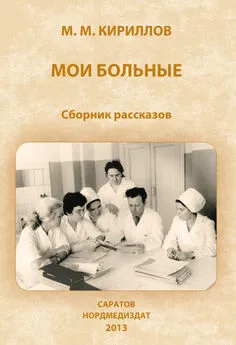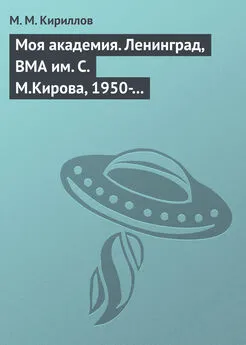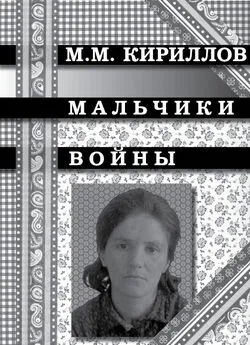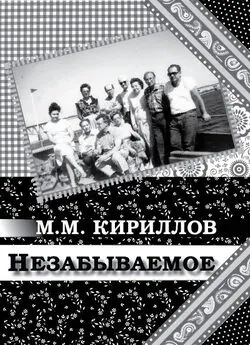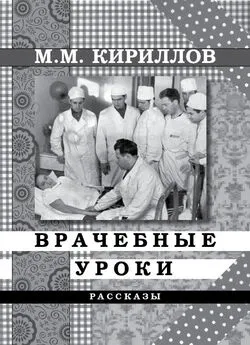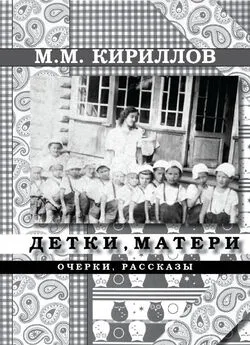Михаил Кириллов - Многоликая жизнь
- Название:Многоликая жизнь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Нордмедиздат»
- Год:2014
- Город:Саратов
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Кириллов - Многоликая жизнь краткое содержание
Книга может быть полезна врачам, историкам отечественной медицины и обычным читателям.
Многоликая жизнь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Какое-то время я вел больного со станции Рощино. У этого 45-летнего мужчины в анамнезе (в годы войны) был ревматизм – сердечно-суставная форма. Последующие 20 лет проявлений ревматизма не было, повторные обследования не выявляли у него порока сердца, что при ревматизме бывает редко. И только в последние 5 лет, он, работник физического труда, стал испытывать одышку и загрудинные боли при нагрузке и стал замечать отеки на голенях. Это в отделении воспринималось как ранние проявления сердечной недостаточности у больного атеросклеротическим кардиосклерозом и ишемической болезнью сердца. Этот диагноз был выставлен в истории болезни. Традиционное лечение оказалось эффективным, и больной уже вскоре должен был выписаться из стационара. Но в это время мне было поручено подготовить больного на лекцию об ишемической болезни сердца, которую слушателям 6-го курса должен был читать Н.С.Молчанов.
Я доложил Николаю Семеновичу результаты обследования больного и данные о лечении. Профессор внимательно осмотрел пациента и расспросил его о ревматической атаке, которую тот якобы перенес в молодом возрасте. Он даже повторно выслушал сердце и подтвердил, что данных о пороке сердца действительно нет.
Он отпустил больного в палату и сказал, что берет его для разбора на лекции, но как раз в связи с тем, что у больного не ишемическая болезнь сердца и не атеросклеротический кардиосклероз, а постмиокардитический кардиосклероз как следствие перенесенного ревматизма. Он сказал мне об этом не в качестве замечания, а как бы дружески делясь со мной редкой и неожиданной диагностической находкой. Ревматизм, сказал он, действительно, «лижет суставы и грызет сердце», но иногда, поражая миокард, не разрушает клапанный аппарат сердца. Это бывает редко. Профессор поблагодарил меня за удачно подобранного больного и подтвердил, что будет читать лекцию не об ишемической природе кардиосклероза, а о его постмиокардитическом генезе. Лекция была прочитана с демонстрацией больного.
Учителя – женщины
«Следует предпочитать иррациональное рациональному,
браться за трудное, не бояться сомнений,
ошибок и парадоксов, стремиться к профессиональным
вершинам, как если бы это были Гималаи,
выдавливать из себя полузнание, любительство,
дилетанство, удовлетворенность достигнутым».
/Проф. М.Я Ратнер, 1964/Писать об учителях-женщинах намного труднее: здесь профессиональное отношение теснее переплетается с личным. Редко, когда женщина-деятель становится создателем Школы. Хотя известные примеры есть: академики Н.П.Бехтерева, В.А.Насонова, профессор И.Е.Тареева. А в обычной жизни на профессиональном пути женщин-учителей много.
В высшую школу мы приходим из школьных женских рук – учительский корпус, как правило, женский. Высшая школа – более мужская, особенно у военного человека, – лишь укрепляет личность и придает ей окончательную профессиональную форму. Здесь учителя-женщины – редкость.
Так было и у меня. К учебе в Военно-медицинской академии меня подготовили прекрасные педагоги из подмосковной Шереметьевской школы – Алевтина Алексеевна Житникова и Людмила Ивановна Ерошенко, и о них мог бы быть особый рассказ. Придя в Академию, я их глазами видел своих первых больных, их жалостью жалел несчастных, их многолетней профессиональной преданностью формировал свою профессиональную преданность.
И в Академии встречались очень интересные педагоги – женщины: в факультетской терапевтический клинике – полковник м/с А.М.Зыбина, на кафедре госпитальной хирургии – полковник Казанцева, рентгенолог – полковник м/с Поссэ. Все – фронтовички, ленинградки, высочайшие интеллигенты и мужественные женщины.
С большим уважением вспоминаю и профессора-нефролога Марию Яковлевну Ратнер, чья врачебная молодость также пришлась на фронтовые годы. Она учила меня, начинающего врача и ученого, предпочитать рациональному иррациональное, браться за трудное, не боятся сомнений, ошибок и парадоксов, стремиться к профессиональным вершинам как если бы это были Гималаи, выдавливать из себя полузнание, любительство, дилетанство, удовлетворенность достигнутым, добиваться такого уровня профессионализма, который делает тебя независимым в своей специальности.
Учили нас и медицинские сёстры, имевшие тогда богатый фронтовой опыт. С ними не страшно было на дежурствах, рядом с тяжелыми больными, рядом с горем. Мне часто казалось, что старшее звено кафедральных коллективов – мужчины с высокими научными званиями – приходят и уходят, а женщины – ординаторы, лаборанты, медсестры остаются, составляя то, что делает клинику домом. И что самое важное, вернись в клинику после долгой разлуки и убедишься, что ты, какой бы ты ни был, – свой, родной, тебя помнят и тебе рады. И все же о какой-либо из женщин-учителей рассказывать сложно, так как их профессиональное влияние, в конечном счёте, оказывалось менее индивидуальным и значимым, чем у клиницистов и педагогов – мужчин. Что же касается их личного участия в судьбе ученика, то здесь нередко получалось, что они любили его гораздо больше, чем его миссию. Бывало и наоборот. Поэтому выделить кого-то из них – значит быть несправедливым к другим, а не рассказать вообще – тоже нельзя: выпадет целый пласт воспитания. Поэтому в продолжение, нарушая стиль очерков, я прибегну к форме аллегории, к неким полярным собирательным образам, за каждым из которых, тем не менее, стоят реальные прототипы. И будут это – стихи в прозе – но таков предмет.
Две женщины – два мира. Одна из них – это открытое и ёмкое сердце, другая – стремительная, гибкая, созидающая мысль. Сикстинская мадонна и Софья Ковалевская. Человеческая красота составляет их разноликую суть.
Вот первая из них. Глаза грустные и одновременно сияющие, со слезами и искорками. Всякий раз, встречаясь с ней, радуешься её искренности и чистоте. Годы не делают её иной. Тёплые глаза её сразу обнаруживают то неверие и усталость, что накопились в тебе. Но она верит, и всё дурное тает.
Говорим о жизни и обычных людях, но я ощущаю волнение. Будучи не в состоянии создать ни единой музыкальной фразы, рядом с ней я чувствую, как во мне рождаются звуки, сердце растёт, бьётся легко, мысли приходят свободно.
Она скромна и незаметна и, вместе с тем, она – собрание всего женственного: чистая и непосредственная, грустная и весёлая, простодушная и мудрая. Она непрактична в том, что касается её самой, нерешительна и беззащитна, сердце её обнажено, но чистота её и доброта так велики, что живёт она, ломая гнильё условностей и мещанства и утверждая силу человеческой красоты. Уходишь от неё всегда верящим и щедрым.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: