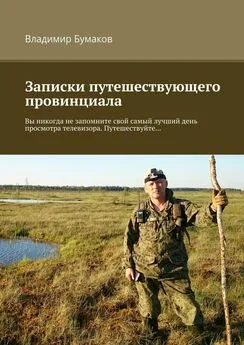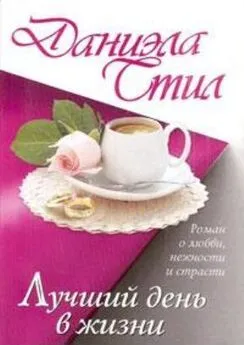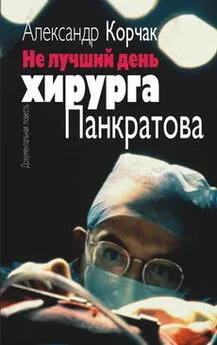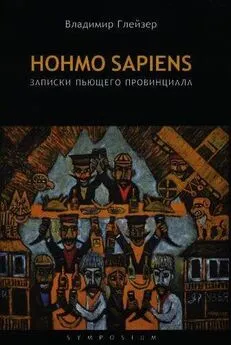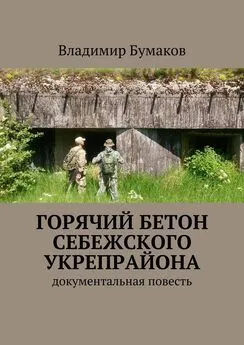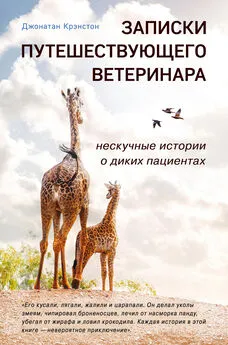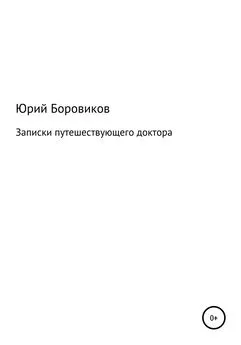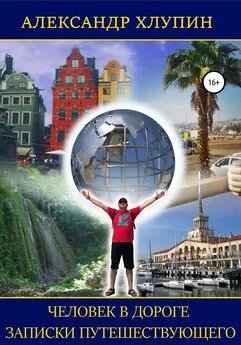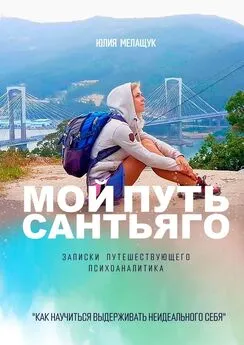Владимир Бумаков - Записки путешествующего провинциала. Вы никогда не запомните свой самый лучший день просмотра телевизора. Путешествуйте…
- Название:Записки путешествующего провинциала. Вы никогда не запомните свой самый лучший день просмотра телевизора. Путешествуйте…
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ридеро
- Год:неизвестен
- ISBN:9785448396786
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Бумаков - Записки путешествующего провинциала. Вы никогда не запомните свой самый лучший день просмотра телевизора. Путешествуйте… краткое содержание
Записки путешествующего провинциала. Вы никогда не запомните свой самый лучший день просмотра телевизора. Путешествуйте… - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Недалеко от Сляжево, в сторону Синего озера в своем поместье до революции жил помещик по фамилии Родзевич (Николай Яковлевич – прим. авт) . Называлось его поместье – Нескучное. Это крупный помещик был. Дом его стоял по ту, противоположную от Сляжево сторону горы. Там сейчас только кусты роз одичавших остались. Фундамент поместья Родзевича разобрали впоследствии на печи. До войны старожилы нашей деревни поговаривали, что в поместье к Родзевичу приезжал Александр Сергеевич Пушкин. Остатки поместья Родзевича скорее всего сожгли уже при Советах. Но нас туда не пускали, ведь здесь была приграничная полоса и в ту сторону ходить без дела не разрешалось.
Наша волость как раз была до дальнего берега Синего озера. Там церковь стояла, это наш приход был. Дорога туда была хорошая, ровная. Раньше, когда помещики здесь жили, за каждую колдобину на дороге крестьянам плетей давали. Мужиков у нас было очень много и все крепостные были, принадлежали помещику Родзевичу, что в Нескучном жил. Сам Родзевич жил в Нескучном до 1917 года, а потом уехал за границу. Поместье у него было самое большое в наших местах. В поместье он оставил своего управляющего. Но и тот быстро пропал куда-то. Еще один помещик, родственник Родзевича жил в Софийском, но тот поменьше был рангом. Земли Родзевича были от Софийского до Блонтов, на них его крепостные крестьяне жили, всего 14 деревень на его землях стояло. А, например в Ноглово и Козельцах жили уже вольные мужики. У них помещика не было.
Еще старая деревня – Борисенки. Там две деревни было – Лаптево и Борисенки.
Рядом со Сляжево было два пограничных заставы: одна в Нескучном, а вторая в Калинково. В районе Тужилово у пограничников было стрельбище. Край стрельбища выходил в большое болото. Они ходили на тужиловское стрельбище тренироваться. Из Нескучного пограничники также ходили на это стрельбище. В Калинково застава большая была, возле самой границы бараки стояли, для начальников двухэтажное здание было построено. Когда война началась и пограничники ушли, они взорвали за собой все свои здания.
А за Абабкино стояли уже войска, не пограничники. У них большие кирпичные казармы были. Прямо на поле. На больших березах, около их казарм натягивали, бывало, полотно и кино крутили. Клуб у них свой был. По выходным рядом с клубом ставили граммофон и на всю громкость песни включали, чтобы в Латвии слышно было. Мы к этим солдатам близко не подходили. У них все было отгорожено и нас они не касались. А когда в 40-м году Латвию присоединили к Союзу, эти войска быстро ушли на латвийскую территорию. Мы так и поняли, что они к нам пришли, потому что готовились к походу на Прибалтику. Когда эти войска ушли, то казармы свои они взорвали и очень долго груды кирпича лежали на месте этих казарм. А лесорубы после войны вели дорогу в этих местах, они подогнали технику и весь кирпич битый из развалин вывезли на дорогу.
Вот после войны власть говорила, что войну не ждали, не знали, что нападут на нас. Все это вранье! Все знали! Латыши на той стороне знали, что война будет. И пограничники наши знали. Слухи ходили постоянные про будущую войну.
Первым начальником пограничников в нашей местности был Бобылев. Он приехал, когда еще заставы не были построены. Его отряд контролировал границу от хутора Веприцы до дальнего от нас берега озера Синее. Потом Бобылева сменил Шевыденко; он до самой войны и командовал пограничниками.
До войны на границе был очень строгий порядок. Дозорная дорожка непрерывно бороновалась. Не дай Бог, корова перейдет через эту дозорку! Все! 100 рублей штраф выписывали без разговоров. А для местных жителей 100 рублей штраф – это полное разорение. А если денег нет – боронуй своими силами дозорку от заставы до заставы. Строгости были большие. Запрещалось дома громко ругаться и драться, например. Продержат на заставе под арестом дня три и на будущее предупредят строго. А строгости в этих вопросах были потому, что от деревни до Латвии напрямик было около километра. И леса, который сейчас, ведь не было; равнина выкошенная была. Латвийские хутора были видны хорошо. И не дай Бог, чтобы в Латвии услышали, что на советской стороне ругань стоит, или драка. Они должны были думать, что у нас все очень хорошо, что нам тут здорово живется. Милиции в наших деревнях не было, порядок пограничники обеспечивали.
Дороги до войны в наших местах были очень хорошие. От нас на Федорки шла большая дорога; мои родители до революции на повозке ездили в Лудзу, тогда она Люцин называлась. Через реку Перновку был мост хороший. И после войны эти дороги еще были в хорошем состоянии. Из Риги мы уже после войны сюда приезжали по этим же дорогам. За ними следили, ремонтировали постоянно. А когда «Перестройка» началась, все забросили и нет больше здесь дорог проезжих.
Первые пограничники, которые охраняли тут границу, были колмыки – скуластенькие такие ребята были. У некоторых девок в деревне даже дети рождались с колмыцкими чертами лица.
А потом пришли украинцы. И солдаты были с Украины и командир их был украинец – Шевыденко. Все пограничники, с которыми приходилось общаться, люди были хорошие. Вели себя с местными обходительно, но строго. Никакой обиды на них не было.
До войны наша границы была настоящим «театром». Вдоль всей границы, от Веприц до Синего озера были луга. Это были наши главные сенокосы. И вот – начитается сенокос. Мужики, бабы деревенские, которые выходили на косьбу, обязаны были быть опрятно, чисто одетыми. Это проверяли пограничники. Делалось это для того, чтобы жители латвийского приграничья могли видеть аккуратно одетых советских людей, радостно работающих в поле. Еще обязательно забивали теленка или барана и варили его на лугу, чтобы запах чувствовался и на латвийской территории. Порядок был такой – час работаешь, потом отдых. Обязательно брали с самой гармонь и во время отдыха гармонист играл веселые мелодии. Мужчины косили строем, бабы тоже строем за ними валки скошенного сена разбивали. Все это контролировали пограничники.
В Сляжево и в Калинково были паровые электростанции. Улицы с темное время освещались. Не во все дома электричество было проведено, а на столбах лампочки должны были гореть обязательно.
Латвийцы, с которыми случалось общаться уже в войну рассказывали, что до войны они смотрели на все эти наши сенокосы под гармошку, освещенные по ночам улицы деревни и завидовали нашему житью. Они думали, что у нас такая жизнь счастливая наступила. А жили мы тяжело и скудно. Что до войны, что после.
Сами же латвийцы на самом деле жили еще хуже нас. Все они в этой местности ездили на заработки в Курляндию. В этих местах заработать было можно только сбором клюквы, грибов. Земля рожала плохо, болота и глина кругом. Трава растет хорошо, но не более.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: