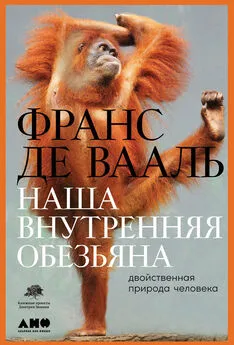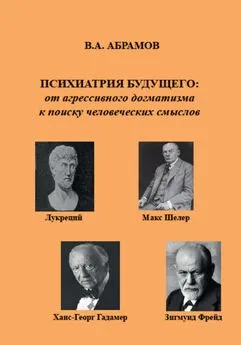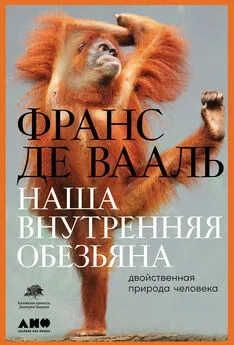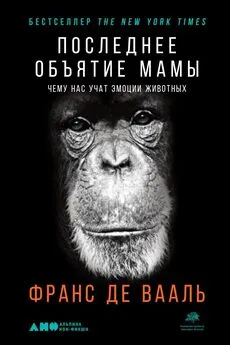Франс де Вааль - Истоки морали: В поисках человеческого у приматов
- Название:Истоки морали: В поисках человеческого у приматов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Альпина нон-фикшн
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91671-275-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Франс де Вааль - Истоки морали: В поисках человеческого у приматов краткое содержание
Помимо увлекательного рассказа об этических формах поведения в мире приматов автор поднимает глубокие философские вопросы, связанные с наукой и религией. Как и когда возникла мораль? Какое влияние оказала религия на формирование этики? Что происходит с обществом, где роль религии снижается, и прав ли герой Достоевского Иван Карамазов, говоря: «Если Бога нет, я имею право грабить ближнего своего»?
Истоки морали: В поисках человеческого у приматов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Эмоциональный контроль очень полезен в критических ситуациях, когда речь идет о жизни и смерти. В качестве примера можно рассмотреть ситуацию, которую описал мне Аллан Шмидт, ведущий смотритель зоопарка Таронга в Сиднее. У них в зоопарке одна из лучших в мире площадок для шимпанзе. Но однажды двухлетняя Сембе запуталась там в веревочной петле. Естественно, Сембе пришла в возбуждение, и на вопли самочки вскоре на помощь примчалась ее мать Шиба. Шиба сумела выпутать Сембе из петли, после чего увела дочь вниз, на землю, обнимать и утешать. Когда Сембе успокоилась, Шиба взобралась обратно и перекусила злосчастную петлю, уменьшив таким образом опасность на будущее. А теперь представьте, чего ей стоило освободить малышку из смертельной петли. Ведь первый порыв, несомненно, подсказывает матери потянуть веревку или детеныша, что, естественно, лишь осложнило бы ситуацию. Вместо этого мать аккуратно помогла малышке высвободиться, растянув петлю; она явно понимала исходящую от веревки опасность. О том же говорят и меры безопасности, предпринятые ею позже.
Мы — млекопитающие, то есть животные, отмеченные чувствительностью к эмоциям друг друга. Я описываю здесь в основном ситуации из жизни приматов, но большая часть сказанного относится и к другим млекопитающим. Взять хотя бы работу американского зоолога Марка Бекоффа, анализировавшего видеозаписи игр собак, волков и койотов. Он пришел к выводу, что игра у псовых всегда проходит по правилам, повышает взаимное доверие, требует внимания к остальным участникам и учит молодняк правильно себя вести. Так, стереотипная «игровая поза» (животное глубоко опускается на передние лапы, одновременно высоко поднимая зад) помогает отделить игру от секса или конфликта; то и другое может все испортить. Но игра резко прекращается, как только один из партнеров поведет себя неправильно или случайно причинит другому травму. Провинившийся «просит прощения», вновь принимая позу игрока и предлагая второму «простить» за нарушение и продолжить развлечение. Еще более интересной делает игру смена ролей, когда доминантный член стаи перекатывается перед щенком на спину и подставляет живот, принимая позу подчинения. Так он позволяет малышу «победить» себя, то есть сделать то, чего никогда не позволил бы сделать в реальной жизни. Бекофф тоже видит здесь связь с моралью:
«В ходе социальной игры, когда особи развлекаются в относительно безопасной обстановке, они познают базовые правила, приемлемые для других, — насколько сильно можно кусаться, насколько грубо бороться, как разрешать конфликты. Того, кто играет честно и предполагает такое же поведение других, ждет награда. Есть даже кодексы социального поведения, которые четко регулируют, что можно, а чего нельзя, и существование этих кодексов, вероятно, имеет непосредственное отношение к эволюции морали».
Для Бекоффа честная игра — это то, как должен вести себя пес, чтобы быть хорошим партнером. Большой пес, играющий в догонялки с маленьким, должен притворяться, замедляя бег, и все собаки без исключения могут наносить лишь легкие укусы. Эти правила имеют отношение к тому, что я назвал межличностной моралью. Но есть и другой момент, когда в игре требуется честность: речь идет о разделе ресурсов. Хотя существует множество правил, которые должны действовать при справедливом разделе, но базовые эмоции здесь опять же гораздо глубже, чем обычно считается. В конце концов, даже маленькие дети устраивают истерику с криком «Так нечестно!», если кусочек пиццы в их тарелке оказывается меньше, чем в соседней. Они демонстрируют справедливость первого порядка, то есть обиду в том случае, когда получаешь меньше других. Если бы этой обиды не было, никого бы не волновало, наверное, как что делится.
Эгалитаризм охотников-собирателей позволяет предположить, что наше внимание к процессу распределения ресурсов имеет долгую эволюционную историю. Зверобоям не разрешается даже разделывать собственную добычу, чтобы они не могли приберечь кусок побольше для семьи и друзей. Антропологи, играя в «Ультиматум» в самых разных частях света, выяснили, что все люди без исключения ценят равенство. Сама игра представляет собой процесс разделения некой суммы денег между двумя игроками. Деньги достаются игрокам лишь в том случае, если оба они согласны с тем, как они делятся. В целом наш биологический вид предпочитает делить поровну, вероятно потому, что предлагающая раздел сторона понимает, что неравный вариант, скорее всего, не будет принят. Сканирование мозга игроков, услышавших предложение разделить деньги не поровну, показывает негативные эмоции, такие как гнев и презрение.
Логика человека, играющего в «Ультиматум», достаточно сложна. Здесь мы не только демонстрируем справедливость первого порядка (протест против получения меньшей доли), но и предугадываем такую же реакцию у других и пытаемся предотвратить ее. Для этого мы активно предлагаем равенство и поднимаемся к справедливости второго порядка, которая представляет собой предпочтение справедливых решений в целом. На принципиальную роль стремления любой ценой избежать конфликта намекал еще Томас Гоббс: «Считается, что для человека естественно искать добра для себя, а справедливости он ищет только ради мира, и то случайно». В этом я согласен с философом, хотя никогда бы не использовал в этом контексте слово «случайно». Столь явно выраженная и универсальная человеческая черта не может быть случайной.
Насколько почтенный возраст имеет такая особенность, стало понятно из наших исследований, когда мне и Саре Броснан удалось обнаружить ее у обезьян капуцинов. Наш эксперимент приобрел большую популярность. Суть его состояла в том, что за выполнение аналогичного задания одна обезьяна получала ломтики огурца, а другая — виноградины. Обезьяны легко выполняли задание, пока вознаграждение за него было одинаковым, причем любым, но отказывались от неравного вознаграждения с таким упорством, что сомнений в их чувствах не оставалось. Я часто показываю на лекциях реакцию обезьян в этом эксперименте, и слушатели, как правило, чуть со стульев не падают от смеха. Полагаю, что их поражает узнавание в таких сценах самих себя. До этого момента они не понимали, как точно их эмоции соответствуют эмоциям обезьян. Обезьяна, получившая огурец впервые, удовлетворенно его схрумкивает, но уже на второй раз устраивает скандал, если видит, что ее товарка получает виноград. После этого она неизменно выбрасывает свой жалкий огурец и начинает трясти клетку в таком возбуждении, что та едва не разваливается. Мотивация, лежащая в основе действий обезьяны, не слишком отличается от мотивации любых уличных протестов против безработицы или низкой заработной платы. Суть движения «Occupy Wall Street» тоже состоит в том, что некоторые люди едят виноград от пуза, а остальные, кроме огурцов, ничего не видят.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

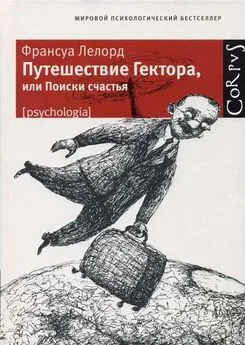
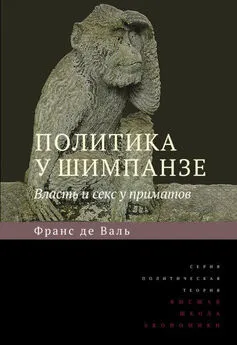
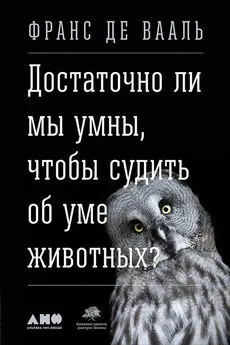
![Франс Вааль - Последнее объятие Мамы [litres]](/books/1075030/frans-vaal-poslednee-obyatie-mamy-litres.webp)