Кирилл Кобрин - На руинах нового
- Название:На руинах нового
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2019
- ISBN:978-5-89059-331-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Кирилл Кобрин - На руинах нового краткое содержание
Эссе Кирилла Кобрина, собранные под этой обложкой, – об устройстве некоторых книг, из которых эта эпоха была сделана. Пертурбации с черепом автора трактата XVII века о погребальных урнах; лондонские благотворительные лавки, где заканчивают свой век еще недавно волновавшие публику сочинения; яростный мизантроп Свифт, брезгливый мизантроп Владимир Сорокин; Владимир Ленин, Франц Кафка, Томас Манн, Хорхе Луис Борхес, Александр Кондратов и другие создатели нашего культурного обихода – в новой книге Кобрина.
Автор смотрит на руины нового с меланхолией и благодарностью. Эссе, вошедшие в книгу, публиковались в бумажных и электронных изданиях на протяжении последних пяти лет.
На руинах нового - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Василиск Гнедов неоднократно исполнял «Поэму конца» на выступлениях эгофутуристов и на совместных акциях мелких авангардистских поэтических групп; эти группы бесконечно дробились, перемешивались, ссорились, производя на публику впечатление кучки расчетливых безумцев и мелких жуликов, которые никак не могут устроить свои собственные дела. На фоне подобных мельтешения и суеты Гнедов выглядел просто эпически. Вот как описывает исполнение «Поэмы конца» Владимир Пяст: «Слов она (поэма) не имела и вся состояла только из одного жеста руки, поднимаемой перед волосами, и резко опускаемой вниз, а затем вправо вбок. Этот жест, нечто вроде крюка, и был всею поэмой» [29] Пяст В. Встречи / Сост., вступ. ст., науч. подгот. текста, коммент. Р. Тименчика. М., 1997. С. 176.
.
Итак, перед нами жест, молчаливый и энергичный. Конечно, можно вписать его в самые разнообразные культурные контексты, вспомнить, например, что это были годы расцвета немого кино, в котором вроде бы все то же самое: тишина и энергичные жесты. Можно также поспекулировать на тему «Гнедов – предтеча немецкого киноэкспрессионизма» или указать на то, что подобный жест неоднократно делает герой советской кинотрилогии о Максиме. Все верно, но оставим это специалистам. Нас интересует другое. Что же это такое было, «Поэма конца», – стихотворение или перформанс, «поэзия» или «искусство»?
С формальной точки зрения ответить на этот вопрос затруднительно. В «поэзии» используют слова, здесь же слов, кроме заголовка, нет. В «искусстве» (к примеру, живописи) используют холст, краски – в 1913 году даже самые смелые арт-бунтари не предполагали, что довольно скоро все станет совсем не так. «Поэма конца» не предполагает никаких материалов, кроме человеческого тела, сцены и зрителей. С другой стороны, в шедевре Гнедова слова все-таки есть – это название. В каком-то смысле на бумаге это произведение исчерпывается заглавием и пустым листом. Пустота листа не многообещающая, а, наоборот, финальная – перед нами не пустое место, ждущее наполнения буквами, не tabula rasa, а доска, с которой стерты все предыдущие высказывания. Точнее, слова не стерты, а просто волшебным образом беззвучно ис-чезли. Более того, если смотреть на «Поэму конца» как на «искусство», а не «поэзию», то одна краска там все-таки есть – белая – цвет книжной страницы. Даже две краски – добавим черную типографскую краску заголовка и номера страницы внизу.
Эта двусмысленность снимается живым исполнением «Поэмы конца». Жест, телесный, видимый публике, сопровождаемый определенным выражением лица исполнителя, пусть даже нарочито безучастным (немногие современники Василиска Гнедова, оставившие описание его исторических выступлений, не говорят о том, что именно выражало его лицо. Гримас-ничал ли эгофутурист или был спокоен? Улыбался? Плакал? Хмурился? Моргал?). И вот в этом мне видится совсем иной сюжет.
Когда-то никакой связи между поэзией и искусством – кроме того, что оба понимались как божественный дар, который люди должны использовать правильным образом и воспевать хвалу богу или богам с помощью слов и визуальных образов, – не было. В воображаемой иерархии поэзия была выше искусства, а слова – важнее изображений. Я говорю, конечно, о древней европейской цивилизации, об античности, но не только. В иудаизме слово как бы и есть Бог, в выросшем из этой религии христианстве – то же самое. Бог был Словом, а Слово было Бог. Ту же иерархию можно обнаружить и в гностицизме – да и вообще по большей части в античной философии. Несмотря на очень высокий статус – прежде всего как искусства воплощать в камне сакральное – к визуальному относились если не с пренебрежением, то с подозрением. В исламе, который очень многое перенял от христианства, это подозрение выросло до открытого недоверия – а позже и отрицания, выразившегося в запрете изображать людей и вообще живые существа. С наступлением европейского Средневековья ситуация несколько поменялась – и ставки изображения выросли за счет икон, церковных росписей и так далее. Тем не менее поэт оставался выше художника; по крайней мере, с социальной точки зрения первый находился чаще всего при дворе, а второй – в своей мастерской. Встречи поэта и художника были редки, однако очень важны – я имею в виду рукописные книги, прежде всего Евангелия, сделанные в средневековых монастырях. Именно там слова становились изображениями, а изображения – словами. Если и искать где-то настоящие истоки нынешней трансформации обеих областей культурной деятельности и их смешения, то здесь. И самое важное в этом сюжете, что и слова, и иллюстрации наносил на пергамент один и тот же человек – монах в скриптории.
Однако монах не сочинял в стихах новых Евангелий. Есть, конечно, случаи, когда в средневековые кодексы вплеталась религиозная поэзия, но они нечасты. И лишь в позднем Средневековье, когда возникла мода на богато иллюстрированные книжки светского содержания, в том числе и на поэтические, только тогда на их страницах стали совпадать слово и изображение, искусство и поэзия. В дальнейшем судьбы поэзии и искусства на Западе вновь разошлись, а книжное дело стало – пусть порой и невероятно изысканным, и несомненно полезным – ремеслом. Немногочисленные по-пытки свести вместе поэзию и искусство можно встретить и в XVI, и в XVII, и в XVIII веках, а в начале XIX Уильям Блейк довел дело до их – увы, короткого – брака. Но общая тенденция была совершенно иной. Картины и гравюры висели в академии и галереях, а стихи печатались в журналах и книгах, которые стояли на полках лавок и в домашних библиотеках. Подобное разделение не исключало, конечно, тесных связей – самое интересное, что можно прочесть на французском об искусстве, сочинено поэтом Шарлем Бодлером, регулярно посещавшим Салон (позднее – Салоны) и прочие арт-выставки.
Василиск Гнедов в 1913 году ставит на этом даже не крест, а именно закрывает предшествующий почти трехтысячелетний период, причем делает это дважды и разными способами. Он хоронит мир, в котором поэты пописывали стишки, а художники малевали картинки, покрывая его труп саваном безупречно белого листа. Но этого ему мало. Тогда он выходит на сцену, чтобы молча сделать энергичный крюкообразный жест. Василиск Гнедов указывает публике на очевидное. За «Смертью искусства» последовал «Конец».
Современники расценили произведение Василиска Гнедова как симптом глубокого кризиса, в котором оказался их мир и его культура. Они прочли «Поэму конца» исключительно как демонстрацию намерения разрушить устоявшиеся культурные ценности, не уловив, что Гнедов на самом деле не «разрушает», а просто указывает на уже свершившееся (или совершающееся). Он молча констатирует очевидный ему факт. То, что было очевидно Василиску Гнедову в 1913-м, стало очевидным многим (слишком многим) в конце 1914-го, когда вместо быстрой победоносной войны Европа осталась гнить в затопленных грязью окопах Первой мировой.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:






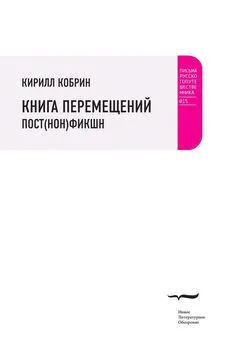


![Кирилл Кобрин - Средние века [очерки о границах, идентичности и рефлексии]](/books/1097243/kirill-kobrin-srednie-veka-ocherki-o-granicah-ide.webp)
