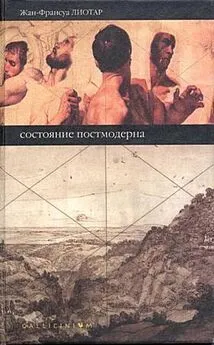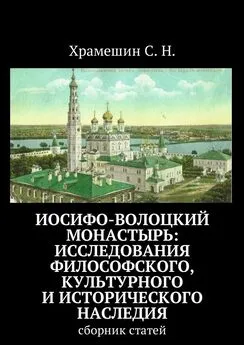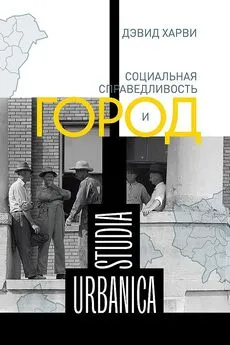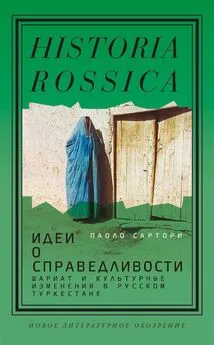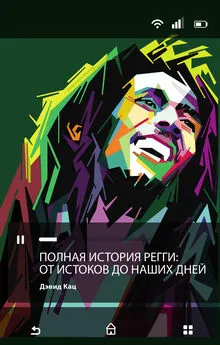Дэвид Харви - Состояние постмодерна. Исследование истоков культурных изменений
- Название:Состояние постмодерна. Исследование истоков культурных изменений
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Высшая школа экономики
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7598-2257-8, 978-5-7598-2369-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дэвид Харви - Состояние постмодерна. Исследование истоков культурных изменений краткое содержание
Книга считается одним из важнейших источников по социально-гуманитарным наукам и будет интересна широкому кругу читателей.
Состояние постмодерна. Исследование истоков культурных изменений - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
До войны Бекман отстаивал чувственный, изобразительный стиль округлых объемов и богатые градации пространства… Но затем, непосредственно во время войны, его стиль полностью изменился. Бекман находится вблизи от линии фронта, где шли одни из самых яростных сражений этой войны, но продолжает рисовать, описывая окружающий его душераздирающий опыт с практически маниакальным интересом… Его аллегорический стиль исчезает, …уступая более легковесной, раздробленной и насыщенной манере. В конце 1914 года он пишет о возникшем у него завораживающем ужасе в отношении «пространства, расстояния, бесконечности». К концу 1915 года он говорит об «этом бесконечном пространстве, самое видное местое которого нужно снова засыпать хоть какими-то отбросами, чтобы никто не увидел его ужасной глубины; …тем самым хоть как-то удастся прикрыть эту темную черную дыру…». Затем Бекман пережил психический срыв, вскоре после которого его искусство приобрело совершенно невообразимое странное измерение… Его квазимистические работы трансцендентной абстрактности не соответствовали никаким фактическим событиям.
Однако в возникновении и постижении столь радикального разрыва с прошлым было нечто вполне соответствующее модернистскому импульсу. Пришествие Русской революции позволило по меньшей мере некоторым фигурам увидеть в разрыве благоприятную возможность для прогресса и чего-то нового. К сожалению, само социалистическое движение разделилось, пропустив через себя конфликт интернациональных и национальных целей (что продемонстрировали знаменитые дискуссии того времени между Лениным, Люксембург и многими другими деятелями по национальному вопросу и перспективам социализма в отдельно взятой стране). Однако само наступление революции обусловило то, что преобладавшим во Втором Интернационале националистским скрепам был брошен вызов со стороны нового ощущения взаимосвязи между целями модернизма и целями социалистической революции и интернационализма.
В таком случае «героический» модернизм, возникший после 1920 года, можно интепретировать как настойчивую борьбу универсалистской чувственности против локалистской в сфере культурного производства. «Героизм» проистекал из исключительной интеллектуально-художественной попытки примириться с кризисом опыта пространства и времени, возникшим до Первой мировой войны, овладеть им и побороть националистские и геополитические настроения, которые выражала война. Героические модернисты стремились показать, каким образом ускорения, фрагментации и концентрирующаяся централизация (особенно в городской жизни) могут быть выражены и тем самым примирены в едином образе. Они пытались продемонстрировать, как можно преодолеть локализм и национализм и восстановить некое ощущение глобального проекта, повышающего человеческое благосостояние. Это предполагало явную смену точки зрения в отношении пространства и времени. Показателен сдвиг в живописном стиле Кандинского, случившийся между 1914 и 1930 годами. До войны Кандинский пишет изумительные полотна, на которых неистовые кружения блестящего света, кажется, одновременно схлопываются над холстом и взрываются за пределами рамы картины, как будто бессильной сдержать их. Десять лет спустя мы обнаруживаем Кандинского в Баухаусе (одном из главных центров модернистской мысли и практики), где он пишет упорядоченные картины пространств, аккуратно организованных внутри строго очерченной рамы, а в некоторых случаях явно принимающих форму схематизированных городских планов, увиденных с перспективы, находящейся высоко над землей. Если модернизм предполагал, помимо прочего, подчинение пространства человеческим целям, то рациональное упорядочение пространства и контроль над ним в качестве неотъемлемой части культуры модерна, основанной на рациональности и технике, подчинении пространственных барьеров и различий, следовало слить с определенным типом исторического проекта. Показательна также эволюция Пикассо. Отказавшись от кубизма после «кубистской войны», он на короткий период после 1919 года обратился к классицизму – вероятно, в определенном стремлении к новому открытию гуманистических ценностей. Однако вскоре Пикассо возвращается к своим исследованиям внутренних простанств посредством их тотального распыления – лишь для того, чтобы вернуться к разрушению в своем творческом шедевре «Герника», где модернистский стиль использован в качестве «гибкого инструмента для связи временны́х и пространственных точек зрения в пределах риторически могущественного образа» [Taylor, 1987, р. 150].
Мыслители эпохи Просвещения постулировали своей основной целью благополучие человека. Риторика межвоенного модернизма ушла от этой цели не так далеко. Проблема заключалась в том, чтобы отыскать для осуществления этих целей конкретные обстоятельства и финансовые ресурсы. Русские, по всей очевидности, плененные модернистским этосом радикального разрыва с прошлым по идеологическим причинам, обеспечили пространство, в котором можно было развернуть полный набор экспериментов (наиболее важными из них стали русские формализм и конструктивизм), а за его пределами имел место широкий спектр инициатив в кино, живописи, литературе и музыке, а также в архитектуре. Но передышка для таких экспериментов была относительно короткой, и ресурсов едва ли хватало даже для наиболее верных сторонников революции. Вместе с тем эта связь между социализмом и модернизмом, какой бы тонкой она ни была, бросала тень на репутацию модернистов капиталистического Запада, где поворот к сюрреализму (также со своими политическими нотками) не смог этого исправить. В обществах, где накопление капитала – эта «историческая миссия буржуазии», как называл ее Маркс – было основной точкой отсчета для любого действия, оставалось лишь место для механического модернизма в духе Баухауса.
У модернизма также были характерные внутренние проблемы. Начнем с того, что модернизм так и не смог избежать такой проблемы собственной эстетики, как воплощение той или иной пространственной формы ( spatialization ). Какими бы гибкими ни были планы Отто Вагнера и Ле Корбюзье в своей способности поглощать будущие направления развития и экспансии, они неизбежно сгущали пространство посреди исторического процесса с его высокой динамикой.
Проблему сдерживания текучих и расширяющихся процессов в фиксированной пространственной рамке властных отношений, инфраструктур и т. д. невозможно разрешить легко. Результатом этого противоречия стала социальная система, слишком подверженная созидательному такого разрушения, которое безжалостно разворачивалось после капиталистического краха 1929 года. Как и воплощенные пространственные формы, художественные объекты, производимые модернистами (конечно, за рядом исключений наподобие дадаистов), передавали некое устойчивое, хотя и не монументальное ощущение, предположительно, универсальных человеческих ценностей. Но даже Ле Корбюзье признавал, что подобному акту приходилось привлекать силу мифа. Здесь и начинается настоящая трагедия модернизма – ведь над ходом вещей в конечном счете возобладали отнюдь не мифы, которым отдавали предпочтение Ле Корбюзье, Отто Вагнер или Вальтер Гропиус. Это было либо поклонение Маммоне, либо, что еще хуже, мифы, навеянные задававшей тон эстетизацией политики. Ле Корбюзье заигрывал с Муссолини и пошел на компромисс с петэновской Францией, Оскар Нимейер планировал город Бразилиа для президента-популиста, но строил его уже для безжалостных генералов, прозрения Баухауса были мобилизованы для проектирования концлагерей, а правило, согласно которому форма следует за прибылью точно так же, как и функция, господствовало повсеместно. В конце концов, именно эстетизация политики и власть денежного капитала восторжествовали над эстетическим движением, которое продемонстрировало, каким образом временно-пространственное сжатие могло быть контролируемым и соответствующим рациональному началу. Трагическим образом прозрения этого движения были поглощены ради тех целей, которые в общем и целом к нему не относились. Травма Второй мировой войны показала – если для подобного утверждения требовалось еще какое-то доказательство, – что для воплощения гегелевских пространственных форм исторический проект Просвещения (вместе с Марксом) было слишком легко обратить вспять. Похоже, что геополитические и эстетические интервенции всегда содержат националистическую, а следовательно, неизбежно реакционную политику.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: