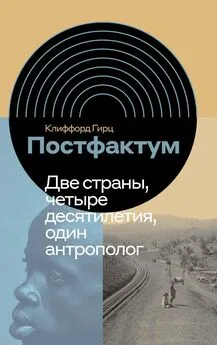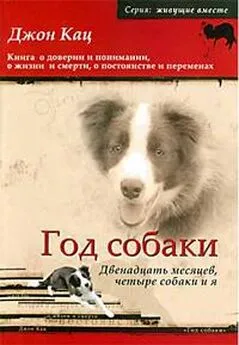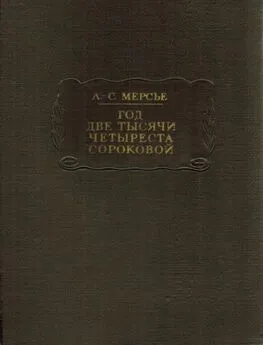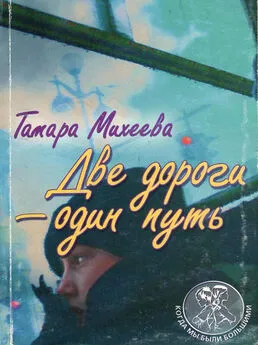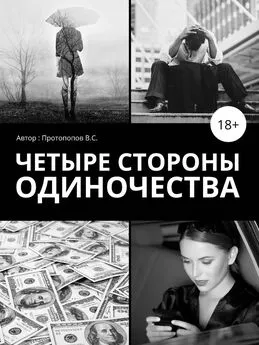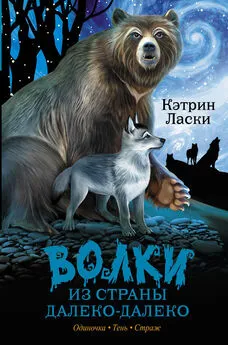Клиффорд Гирц - Постфактум. Две страны, четыре десятилетия, один антрополог
- Название:Постфактум. Две страны, четыре десятилетия, один антрополог
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент НЛО
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:9785444813942
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Клиффорд Гирц - Постфактум. Две страны, четыре десятилетия, один антрополог краткое содержание
Постфактум. Две страны, четыре десятилетия, один антрополог - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Для национализма, несмотря на то что некоторые его ключевые деятели были минангкабау, переселенные с Западной Суматры (они, в любом случае, вскоре потерпели поражение в борьбе за власть, развернувшейся после обретения независимости), основным полем битвы тоже стала Ява, а ключевыми фигурами в ней – яванцы. Главным из них был, конечно же, Сукарно, сын школьного учителя, который начал свою деятельность в качестве активиста в 1920-х годах, которого в период Депрессии более или менее держали (какое-то время – буквально) под контролем голландцы, который вновь вышел на сцену при поддержке японцев во время оккупации и во время последующей революции стал героем-президентом республики. Здесь были массовое движение, массовый лидер и массовые эмоции, которые держались после обретения независимости достаточно долго, пятнадцать или двадцать лет, чтобы предопределить ключевые элементы политического дискурса – популизм, борьбу, единство и революцию, – элементы, которые, сколь бы по-разному их ни понимали (одни считают, что их исказили, другие – что облагородили), по-прежнему преобладают даже сейчас, когда движение и его лидер сошли со сцены (исчезли ли эмоции, сказать однозначно нельзя).
Массовые убийства 1965 года тоже были, конечно, большей частью яванскими, даже внутрияванскими 71 71 Разумеется, массовые убийства были также на Бали и в некоторых частях Северной Суматры. Сукарно, отстраненный от власти, умер в 1970 году. Сухарто официально пришел к власти в марте 1966 года.
; конфликт был не между народами, а внутри одного народа, и на кону стояло символическое основание – исламское, яванское, гражданское или популистское, – которое должно скреплять «Яву» и «себеранг». С тех пор история республики была поделена – самими индонезийцами и вслед за ними иностранными наблюдателями – на «Старый порядок» при Сукарно, время романтического национализма, дрейфа влево и финальной катастрофы, и «Новый порядок» при Сухарто, время господства армии, правления чиновников и кажущегося постоянства. Но как бы ни различались стиль, тон, политика и методы двух лидеров и сколь бы противоположны ни были созданные ими режимы по духу и последствиям, между ними гораздо больше преемственности, чем готовы признать их сторонники.
И здесь снова можно видеть преемственность политической задачи, которая в данном случае заключается в собирании в единый порядок различных народов, которых в разной степени настигли более крупные исторические каузальности – не только торговля или колониальное господство, но и религия (ислам, католическое и протестантское христианство, индуизм, буддизм), развитие (образование, здравоохранение, связь, урбанизация) и идеология (национализм, марксизм, либерализм, традиционализм). То, что политика суку , примирения сообществ друг с другом, всех их – с Явой, а Явы – с собой, остается в центре практик управления, гарантируется не просто множественностью групп, культур, языков, рас и социальных структур, но и глубиной различий между ними – в размере, значимости, расположении, богатстве, сложности и мировоззрении. То, чего Сукарно пытался добиться посредством риторики, харизмы и мистики революции, Сухарто пытается добиться посредством солдат, технократии и ритуальных чествований революции: сдержать раскол, вносимый культурными различиями, гордостью, соперничеством и весом.
Возможно, Сухарто это удается лучше; по крайней мере, пока он не потерпел столь драматичного поражения. Но если и так, то это следствие создания идеологических инструментов и институтов насилия взамен страсти, цветистости и призывов. Превращение сукарновских, в значительной степени декларативных и глубоко яванских, «пяти пунктов», Панчасила , в официально упорядоченную и официально насаждаемую гражданскую религию, создание объединенной государственной партии и превращение армии (теперь примерно на восемьдесят процентов состоящей из яванцев) в универсальное политическое орудие позволили Сухарто – опять же лишь пока – достичь того, о чем его предшественник мог только мечтать: распространения яванизма за пределы Явы, стирания различий и сдерживания инакомыслия. Сухарто, которому за семьдесят, тоже уже близок к завершению своего пути. Кто (или что) придет ему на смену, неясно. Но кто (или что) бы это ни был, он все равно столкнется со сборищем народов, далеким от равновесия.
Любая политика – спор, а власть – порядок, утверждаемый в этом споре. Это всеобщий феномен. Что не является всеобщим, так это сущность спора или форма порядка.
Групповое соперничество, несомненно, играет кое-какую роль в марокканской политике, как и в любой другой, а личные отношения зависимости – в индонезийской, как и в любой другой. Различается значение этих и прочих вещей (богатства, родословной, образования, удачи, обаяния, благочестия, доступа к оружию), которые тоже в той или иной форме присутствуют практически везде и имеют в каждом конкретном случае свою значимость, центральность, важность, весомость. Как быстро осознаёт любой игрок, это чрезвычайно трудно оценить, и, возможно, именно поэтому мы, социальные ученые, не игроки, а резонеры и наблюдатели, профессиональные критики задним числом, столь склонны к абстрактным репрезентациям Власти, Государства, Господства и Авторитета – громким словам зрительского реализма.
Проблема с таким небессмысленным подходом, когда общее выводится из частного, после чего частному отводится роль деталей, иллюстраций, фона или уточнений, состоит в том, что мы остаемся беспомощны перед лицом тех самых различий, которые нужно исследовать. Мы либо превращаем их в систему абстрактных подтипов, которая грозит стать бесконечной (Индонезию Нового порядка называли 72 72 О некоторых вариантах политической категоризации Индонезии Нового порядка см.: Robison R. Indonesia: The Rise of Capital. Winchester, Mass., 1986. P. 105–130.
среди прочего наследственным, бюрократическим, военным, постколониальным, компрадорским, репрессивно-девелопменталистским, неотрадиционалистским и неокапиталистическим государством), либо считаем их поверхностными локальными проявлениями более глубокой родовой формы (марокканского, или арабского, или исламского, или ближневосточного, или восточного «авторитаризма»), либо просто игнорируем их как помехи – внешние препятствия для считываемого сигнала. Это действительно упрощает дело. Но вряд ли проясняет его.
Когда мы отказываемся отделять политику от специфических обстоятельств жизни, в которых она воплощается, приходится жертвовать прямотой, уверенностью или видимостью научности, но зато в результате возможна широта анализа, которая с лихвой компенсирует эту жертву. Радикальный персонализм марокканской политики распространяется практически на все аспекты марокканской жизни – рынки, право, родство, религию. Либо, что то же самое, эти аспекты распространяются на него. Это же можно сказать об индонезийской попытке примирить групповое разнообразие и национальное единство. Изображать власть как некую безликую универсальную силу, устанавливающую абстрактные, инвариантные отношения, называемые «господством», – значит закрывать возможность восприятия как фактуры, так и охвата политики. В результате нам почти нечего сказать, кроме того, что большая рыба пожирает мелкую, слабые терпят неудачу, власть развращает, нет покоя голове в венце 73 73 Цитата из драмы Шекспира «Генрих IV» (в пер. Б.Л. Пастернака): «Счастливец сторож дремлет на крыльце, / Но нет покоя голове в венце». – Прим. перев.
и хозяин и работник нуждаются друг в друге – туманные теоретические банальности.
Интервал:
Закладка: