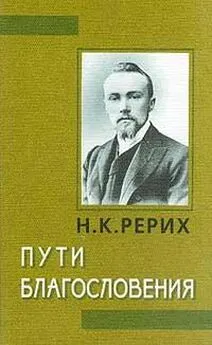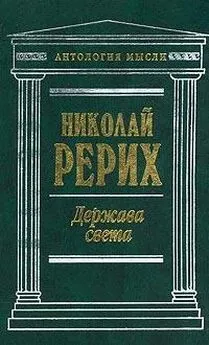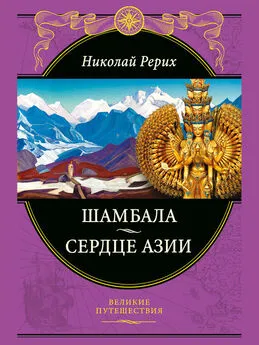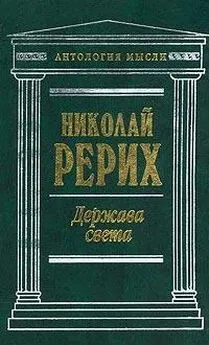Елена Полякова - Николай Рерих
- Название:Николай Рерих
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Искусство
- Год:1985
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Полякова - Николай Рерих краткое содержание
Николай Рерих - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Серы краски петербургских улиц — все ярче, все насыщенней палитра Рериха. В девятисотые годы он окончательно бросает масло, переходит на темперу, дающую те яркие и чистые сочетания тонов, какие недоступны маслу.
Изысканно строга черно-белая графика, рисунки к Метерлинку, заставки и концовки книги, журнальных статей — викинги, стилизованные фигуры животных, городища, городки. Изысканно ярки переливы цветов, тонов в живописи: зеленоватые сумерки окутывают фигуру воина, золотистый свет мерцает над городом, которым управляет седой король (в сказочном городе узнается реальнейший Таллин), синие тени разливаются по часовне старого замка, то фиолетовым, то голубым отсвечивают камни башен и лестниц. Алые закаты горят над зелеными холмами, лиловые тучи идут над синими озерами — словно какой-то странный, притягивающий, холодный свет озаряет изнутри каждую картину, сотое, тысячное «сочинение» на темы древнего славянства, западного средневековья, восточных легенд.
Художник выписывает темперу из Мюнхена, узнает рецепты (охотно делится ими с Серовым), сам готовит краски. В Лондоне увидел незаконченную картину Микеланджело, писанную на зеленоватом холсте, стал работать на цветных холстах — они определяли общий тон картины (и сами определялись им), они давали неожиданные эффекты в сочетании с красками.
Для работы над этими холстами художнику уже не нужна натура, не нужны непосредственные зрительные впечатления: он строит новые композиции, новые исторические мотивы как бы из готовых блоков — единожды созданных и уже неоднократно проверенных, использованных художником. Поэтому еще картины Рериха сразу, безошибочно узнаваемы: они — словно один бесконечно продолжающийся пейзаж северо-западной Руси, одни холмы, одна река, на берегах которой возникают то идолы, то городища, то фигуры святых.
Повторяется пейзаж, повторяются сюжеты, повторяются образы викинга, воина, охотника, старца-колдуна славянского и старца скандинавского, посылающего в странствия молодых викингов. Повторяются и образы-темы кораблей, плывущих вдаль, вечного боя облаков, всадников, вечного странствия воинов и вечного ожидания женщины на берегу.
Художник многократно варьирует свои любимые сюжеты — «Заморских гостей», «Идолов», «Городища», — но никогда не делает копий-повторов. Каждая картина входит в огромную, через всю жизнь проходящую сюиту-вариацию на темы древней жизни, странничества, ожидания, боя и подвига.
Удивляет даже не самое количество картин, писанных в эти годы Рерихом, — удивляет как раз то, что в этих сотнях картин, варьирующих и открыто повторяющих одинаковые мотивы, нет и следа ремесленничества, штампа, художественного компромисса. Живописные вариации Рериха не надоедают, как не надоедают музыкальные вариации композитора, который ведет и ведет единую мелодию, как не надоедает, но завораживает орнамент восточного ковра, тоже ведь повторяющий единый узор.
В единстве, в повторах-вариациях, напротив, проявляется очарование ритма, рождающегося из повторов. Но для этого и основная тема и самый ритм должны быть найдены абсолютно точно, именно в том качестве, которое наиболее соответствует индивидуальности, мировоззрению данного художника. Свою тему, свой ритм Рерих сохранил на всю жизнь.
Это определяет самостоятельность Рериха в круге исторических художников рубежа девятнадцатого — двадцатого веков. А круг этот обширен и разнообразен, как никогда.
Суриков в 1907 году выставляет «Разина», задумывает «Пугачева», «Красноярский бунт», «Смерть Павла Первого». Вовсю работает Константин Маковский свои сусальные «боярские пиры», такие популярные в мещанских домах. Академист Семирадский продолжает в начале века писать эффектные древнеримские сюжеты — обнаженных рабынь, патрициев в белых тогах на фоне мраморных колонн.
Семирадский одновременно с «Каменным веком» Васнецова предшествовал «первобытным» картинам Рериха. Но его «Похороны славянского вождя» и «Ночные жертвоприношения», выставленные в Историческом музее, жрицы с подвитыми локонами, театрально заламывающие руки, пухлые младенцы, позирующие воины кажутся в двадцатом веке почти пародией на подлинную историческую живопись.
Река этой живописи разбита сейчас на многие русла.
Преимущественно «архитектурный» пейзаж старинной Москвы захватывает Аполлинария Васнецова; изысканно-узорчато, гармонично в своей пестроте, любовно и чуть иронически трактована русская старина у Андрея Рябушкина; ирония проскальзывает в работах Валентина Серова, посвященных петровскому времени, и в добротных жанровых композициях Сергея Иванова, отделяет его «Приезд иностранца» от простодушной серьезности картин Неврева или Лебедева. Елена Поленова и Иван Билибин поют героев русских сказок, сплетают чудеса Василисы Премудрой и веселую грибную войну с реальным среднерусским пейзажем.
Молодой уфимец Нестеров обращается к житиям святых Сергия, Ольги, Бориса и Глеба, убиенного царевича Дмитрия, к умиленно-светлым старцам, которые тихо молятся среди тонких берез и пушистых елочек. Созвездие молодых «мирискусников» увлекается ретроспекцией, тонкой стилизацией восемнадцатого века, русского ампира…
Отличие Рериха — исторического и эпического живописца — от предшественников и современников очевидно. Справедливо говорят искусствоведы об одиночестве художника среди «мирискусников».
Они в основном тяготеют к сравнительно недалекому историческому анекдоту, он — к доисторической эпике. Живопись «мирискусников» изящна, акварельно легка, кисть Рериха плотна и тяжела. Их природа — очеловеченная, современная, почти дачная, его — подчеркнуто первобытная, дочеловеческая.
Измученные поселяне — предмет изображения, точка приложения «совестливости» передвижников — трудятся где-то за пределами картин художников «Мира искусства». Их натура — барышни под розовыми зонтиками, девочки в кружевных панталончиках, томные франты в высоких цилиндрах. Бенуа и Лансере, Сомов и Бакст не обличают, не негодуют, не рассказывают о горестной жизни русских крестьян и мелких горожан. Рисуя пейзажи Нормандии и Версаля, каналы Венеции, они не отвергают и Россию, не уходят из нее, но уходят в ее прошлое, во времена петровского, только что отстроенного Петербурга, прогулок и охот императрицы Елисаветы, парадов Павла, усадебной идиллии дней Александровых.
Художников увлекает прошлое барочное, классицистское, милый ампир русской провинции, устойчивый уют ее быта (у Кустодиева — в варианте купеческом); тонкие художники боятся наступления Города, фабричных дымов на это прошлое, и все же они по преимуществу художники городские. Пишут не реки — каналы, обнесенные чугунным узором, не озера — копаные прудики, не леса — парки, в крайнем случае ухоженные рощи.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: