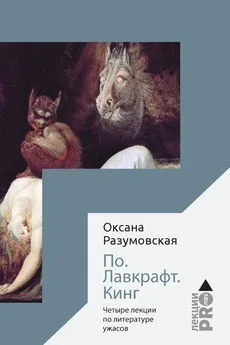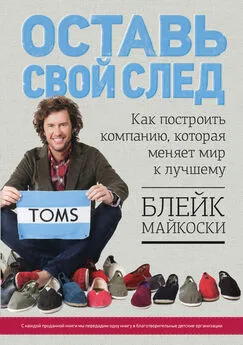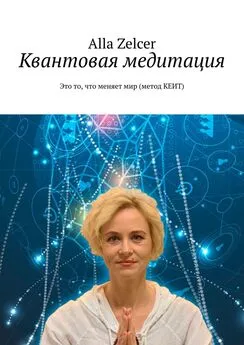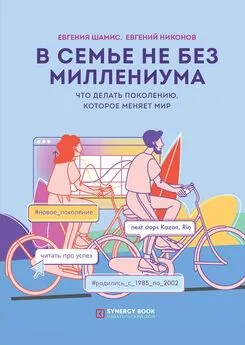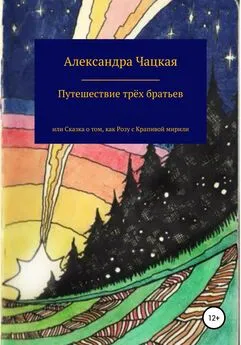Александр Марков - От знака к знанию. Четыре лекции о том, как семиотика меняет мир
- Название:От знака к знанию. Четыре лекции о том, как семиотика меняет мир
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент РИПОЛ
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-386-12188-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Марков - От знака к знанию. Четыре лекции о том, как семиотика меняет мир краткое содержание
От знака к знанию. Четыре лекции о том, как семиотика меняет мир - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Американский философ Чарльз Сандерс Пирс опубликовал тогда серию статей, в которых обосновал изучение знаков как отдельную науку, а Фердинанд де Соссюр читал «Курс общей лингвистики», книгой изданный посмертно. Эти исследователи друг с другом не общались, принадлежали совсем разным академическим мирам, но они сходились в одном: знак – это самостоятельная реальность, которую нужно отличать как от реальности вещественного мира, так и от реальности психики. Тем самым семиотика изначально, как и многие интеллектуальные достижения начала XX века, возникала как критика психологизма – убеждения, что наши отношения с реальностью исчерпываются психическими реакциями на нее и что эти реакции можно поставить под рациональный контроль. Семиотика доказывала, что кроме мира реакций есть еще мир вполне самостоятельно действующих значений.
Чарльз Сандерс Пирс принадлежал к крупнейшей тогда американской философской школе – прагматизму. Слово «прагматизм» нельзя понимать в бытовом смысле, как решение практических задач или искание пользы и выгоды. Это философия, согласно которой законы отношений с вещами и законы отношений с идеями примерно одинаковые: мы можем оценивать идеи так же, как оцениваем вещи, и совершать операции с вещами на тех же основаниях, на которых выполняем операции в уме. Прагматизм противостоял чрезмерному пафосу оценивания, который вел к перевесу эмоций над разумом и мешал оценить реальность. Нужно было научиться относиться к мыслям так же внимательно и бережно, как к вещам.
Но именно здесь Пирс задумался: если мы осторожны с каждой вещью, то значит, она нам подсказывает эту осторожность. А следовательно, будучи внутри употребления вещью, в логике высказывания она становится знаком, который выдает, выговаривает свой смысл для нас. Но такое выговаривание смысла, как в практике познания, так и в практике пользования языком, не может быть разовым, но должно представлять собой некоторую последовательность, явно регламентируемую больше формами самих знаков, чем нашим желанием быть последовательными.
Пирс разделил все знаки на три большие группы, чтобы объяснить не только свойства самих знаков, но и их способность делать нашу коммуникацию реальной и соотносящей нас с реальными вещами. А именно, это «икона», «индекс» и «символ». Икона требует сходства знака с изображаемым предметом, индекс указывает на него, как симптом или признак, тогда как символ создан договоренностью между людьми, и непонятен тем, кто вне этой договоренности.
Несколько примеров. Для обозначения мужского и женского помещения можно употребить схематичные фигурки мужчины и женщины (икона), можно изображение мужского ботинка и женской туфли на каблуке (индекс), а можно знаки S «щит и копье Ареса» и ^ «зеркало Венеры» (символ) – они понятны только тем, кто косвенно наследует античной мифологии и астрологии. Или можно обозначить школу по-разному: фотографией здания школы (икона), изображением школьной формы (индекс) или официальным логотипом школы (символ). В данном примере все три обозначения ненадежны: не все опознают школьные здания среди Других зданий безошибочно, не все отличат школьную форму от офисной и не все правильно прочтут логотип школы – получается, что все три типа знака культурны, а не природны.
Слово «икона» (от греческого «эйкос» – похожий) подразумевает внешнее сходство. Но важно, что для Пирса это внешнее сходство определяется всегда без всякого сравнения с другим сходным изображением. Среди двух портретов мы можем выбирать, какой более «похож», но икона принимается как похожая без каких-либо сравнений или обсуждений. Получается, что икона – не природное явление, а уже некоторая социальная условность (мы должны знать не только, что такое школа, но и чем в ней занимаются, чтобы определить, что это школьное здание, например, благодаря пристроенному спортивному залу), и при этом определение иконы исходит из особенностей самого предмета, а не особенностей нашей процедуры познания.
«Индекс» (указатель, указательный палец) – это тоже всегда часть предмета: по дыму мы определяем огонь, по ботинку – пол его хозяина, по столу – учреждение. Здесь тоже замечательно, что строение индекса происходит не из устройства языка, а из устройства самой предметной реальности. Но при этом мы должны знать не только, что такое ботинок, но и в каких случаях какие ботинки надеваются: например, если человек думает, что ботинки носят только чиновники, он может подумать, что это комната для чиновников, а не для всех мужчин вообще.
Наконец, символ, хотя и вполне условен, тоже принадлежит вещи: он может наноситься на вещь как логотип, или закрепляться за ней, как устное или письменное ее обозначение – устное или письменное слово всегда символ, потому что оно точно уж не похоже на свой предмет, разве что слово «му» можно считать отчасти индексом, а не только символом коровы. В стихах романа Г. Гессе «Игра в бисер» (1942) прекрасно изображен страх дикаря, человека естественного, перед системой символов, как налагающих на человека дополнительные обязательства.
Но даже в простых системах, вроде дорожных знаков, мы не всегда можем различить эти три типа. Знак «кирпич» – для одних это икона, что-то лежит и перегораживает путь. Для других – индекс, потому что одна белая балка будет скорее частью препятствия или намеком на него, чем действительно может воспрепятствовать любому движению. Для третьих – символ, потому что, скажут они, это наша фантазия, услышав название дорожного знака, превратила вытянутый белый прямоугольник в какой-то объемный кирпич или балку, каким он никогда не был. Поэтому сейчас оставим в стороне Пирса, он на нас не обидится, и обратимся к Соссюру, который выяснял свойства знаков, не подразделяя их на группы.
Фердинанд де Соссюр, изучая и сравнивая различные языки, обратил внимание на самую простую вещь: никак нельзя соотнести напрямую звук слова и его смысл. Например, хотя у стола четыре ножки, а в слове стол – четыре звука, вряд ли это случайное числовое совпадение достаточно для соотнесения. Одни и те же предметы не только в разных языках называются совсем непохоже, но и в одном языке могут быть совсем не сходные по звуку синонимы. Конечно, есть звукоподражания, вроде «гавкать» или «скрежетать», но из них не составишь язык, и они не слишком надежны: например, «гавкать» похоже на лай собаки, но уже в слове «лаять» звучит скорее ла-ла, чем песий звук. Как написал Михаил Кузмин: «Лаем лисьим лес огласился» – лай, как вы видите, растекается гладко по лесу, и о тявкании лисы мы уже думаем меньше, чем об охотничьем пейзаже.
Поэтому должно быть другое основание, связывающее звук слова и его смысл. В русском языке слово «язык» означает очень многое: и языковую способность (человеческий язык), и отдельный язык (английский язык), и любую систему условных обозначений (научный язык). Индивидуальную речь или коллективное наречие мы выделяем как то, что не обладает главным свойством языка – устойчивостью и полнотой. Мы можем описать молодежный жаргон, используя литературный язык, но не наоборот. Потом мы увидим, как гипотеза о полноте языкового выражения (надо заметить, принципиально недоказуемая) легла в основу отечественной семиотики. При этом русское слово «язык», как и греческое «глосса» и латинское lingua обозначало первоначально только часть тела в ротовой полости, от «лизык», то, чем лижут, как и латинское lingua тоже лижет, а затем греческое «глосса» стало означать в том числе пояснение непонятного слова, а lingua – средство общения, как в выражении lingua franca – «свободный язык», язык международного коммерческого общения.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
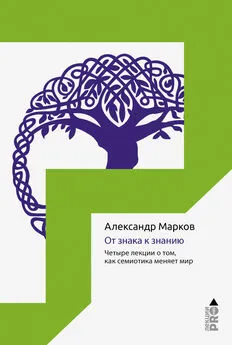
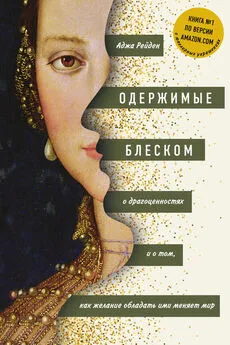
![Александр Марков - Постмодерн культуры и культура постмодерна [Лекции по теории культуры] [litres]](/books/1076529/aleksandr-markov-postmodern-kultury-i-kultura-po.webp)