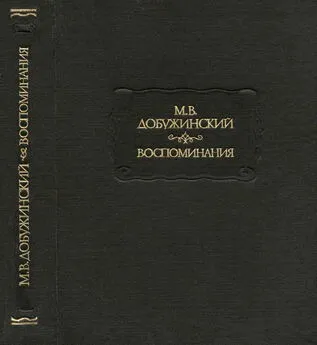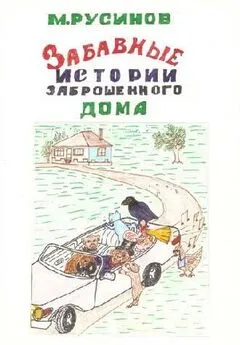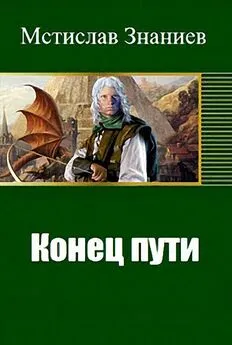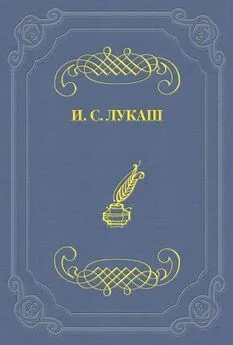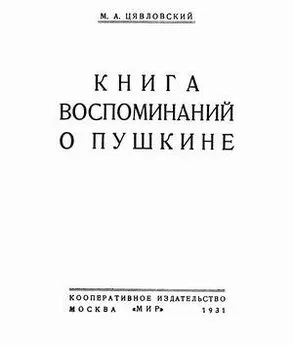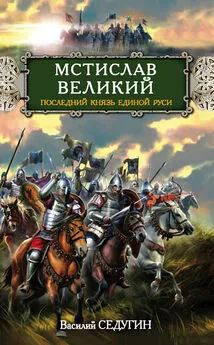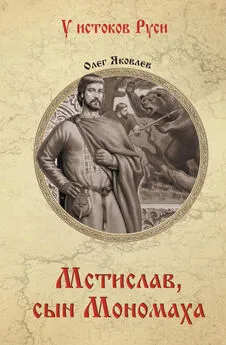Мстислав Добужинский - Воспоминания
- Название:Воспоминания
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:1987
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мстислав Добужинский - Воспоминания краткое содержание
Воспоминания - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В такой смешной и наивной форме самонаказание больше у меня не повторялось, но сколько раз в течение моей жизни самообуздание и отказ бывали источниками самых, быть может, чистых и возвышавших меня внутренних побед…
У отца после долголетнего канцелярского, штабного сидения теперь была живая служба — в полевой артиллерии, и служба эта, по-видимому, его даже увлекала. Но сам Кишинев, хотя тут у него была та близость к природе, о чем он так долго мечтал, ему был очень не по душе. Я раз слышал — он жаловался кому-то на пошлые сплетни, на ужасное общество офицерских дам и, конечно, тосковал и был одинок в этой провинции. Я не помню, чтобы кто-нибудь у нас бывал, кроме офицеров по делам службы.
Сомневаюсь, чтобы у него в Кишиневе завелись какие-нибудь знакомства, он был крайне разборчив, но знаю, что и тут он как-то раз сыграл роль миротворца (что бывало в Петербурге на моей памяти) — мирил своего пылкого генерала с его красавицей-генеральшей и отговаривал от развода. В Кишиневе, конечно, мы с папой говорили о кишиневской ссылке Пушкина, и по ассоциации это даже утешало. Папа как-то прочел мне из Пушкина: «Проклятый город Кишинев, тебя бранить язык устанет» [149] . Мне это страшно понравилось, и я распевал эти слова.
Отец, как я узнал, скоро был отмечен начальством — батарею свою он принял в плохом состоянии и быстро ее поправил. (Эта 5-я батарея 14-й артилл[ерийской] бригады была боевой, некогда отличилась во время защиты Севастополя и получила серебряные Георгиевские трубы. В этой именно бригаде в Севастополе служил молодым офицером Лев Толстой.) Особенно хороши были лошади, на которых он, как говорилось, «не жалел корму». Он завел обычай делать со всей батареей утренние прогулки за город и расшевелил скучавших офицеров. Я видел однажды парад и отца, отличного наездника, как он на этом параде гарцевал во главе батареи.
С переводом в другую часть армии отец, как полагалось, имел право несколько месяцев донашивать прежнюю форму, в данном случае адъютантскую, и, пока не сменил ее на общеартиллерийскую (с черным бархатным околышем и воротником и золотым «прибором»), первое время щеголял в этой красивой форме с белыми кантами и серебром.
У отца была верховая лошадь — красавец, рыжий Сорванец. Этот бешеный конь был его любимцем; однажды, во время утренней прогулки батареи, сбросил его все-таки с седла, и отец лишь чудом избег гибели — на него в облаке пыли неслась вся батарея с пушками. Отца моего необыкновенно любили солдаты — это было всегда, в течение всей его службы. Сколько раз я впоследствии видел приходивших к нему, уже отслуживших свой срок солдат, у иных он бывал посаженым отцом или крестил детей, многих умел устроить на какое-нибудь место, и сколько он получил за свою жизнь трогательных корявых писем!
В батарее был такой случай: у отца служил высокий, красивый солдат-еврей по фамилии Нагель, которого отец за отличие произвел в чин фейерверкера (унтерофицера), но произошел скандал: в приказе свыше был объявлен выговор полковнику, отличившему еврея! Как отец ни возмущался, этого Нагеля пришлось сделать из унтерофицера бомбардир-наводчиком, с красными нашивками на мундире вместо золотых. Разумеется, редкое беспристрастие к иноверцу создало отцу в Кишиневе популярность и славу «либерала».
Как было и в Петербурге, денщики у нас были очень хорошие (отец умел выбирать людей): кучером был малоросс Годовяк, который ленивым голосом окликал зевак: «Поберегитеся!» Другой денщик был огромный солдат Задорожий, тоже хохол, знаменитый у нас тем, что забирал к себе под одеяло греть цыпленка-сироту и раз его «заспал», задавил во сне. Был еще поляк Петр Ткач, повар, умевший готовить замечательные блюда, — его отец потом перевел к себе в Вильну, и там он продолжал у нас свое искусство.
В ту первую зиму после Петербурга Кишинев был засыпан глубоким снегом. Мы иногда гуляли с отцом в большом городском саду, и я забавлялся, как тучи ворон и галок, когда мы хлопали в ладоши, снимались с голых деревьев и носились в карканьем и шуршанием крыльев, что мне напоминало наш петербургский Летний сад. Развлечений было мало, мы лишь побывали в кочующем цирке Труцци, где запах конюшен напоминал мне сладкие детские впечатления петербургского цирка Чинизелли [150] . Однажды в офицерском собрании давал сеанс заезжий «художник-моменталист», и я любовался его ловкой рукой, выводившей с одного маха карикатуры (конечно, и Бисмарка с тремя волосками на лысине), и хитрым умением сделать пейзажи из случайной кляксы.
Рисование в гимназии преподавал передвижник Голынский [151] , к нему я относился скептически: в актовом зале висел портрет Александра III его кисти, и меня шокировали плохо нарисованные ордена. На уроках я продолжал делать то же самое, что делал в Школе Общества поощрения художеств, и советы Голынского мне ничего нового не давали. Мои рисунки выделялись, и, когда после двух лет их накопилось изрядное количество, тщательно растушеванных акантовых листьев, носов и ушей, Голынский непременно хотел эти рисунки отправить, как выдающиеся, в Академию художеств. Не знаю, отправил ли.
Дома по сравнению с Петербургом я рисовал мало, иногда делал копии с иллюстраций из «Нивы», придумывая свои собственные краски. С натуры, после Кавказа, я совсем не рисовал.
Весной Кишинев необычайно похорошел. Уже в конце февраля стало теплеть, и скоро все фруктовые сады, в которых утопал город и которыми были полны окрестности, еще до листвы покрылись, как облаком, белым и бледно-розовым цветением черешен, яблонь и абрикосовых деревьев. Мы с отцом часто ездили в коляске за город и любовались этим странным и очаровательным пейзажем. Обыкновенно мы брали с собой и маленького Игоря, он становился на сиденье между нами, и в городе все обращали внимание на этого хорошенького мальчика.
Пасха в Кишиневе тоже была особенной. Было совсем тепло, а в Вербное воскресенье в церкви вместо наших северных верб держали пальмовые ветви.
Весной того же 1887 г. из Кишинева собралась одна компания ехать в Египет, в числе этих туристов был наш военный доктор Савицкий. Мой отец решил было и меня отправить с ними. Еще в Петербурге мы прочитали книгу Оппеля о Египте «Путешествие в древнюю страну пирамид», и я был уже хорошо подготовлен, и теперь приходил в восторг что увижу Египет, но, увы, по каким-то причинам меня не взяли, и я был в ужасном горе.
В утешение д[окто]р Савицкий привез мне из Египта двух живых священных жуков, скарабеев, которые долго у меня жили и катали шарик из своего навоза.
Мой дедушка, которому я написал о своем горе, ответил мне (письмо это чудом сохранилось и лежит теперь передо мной в Нью-Йорке в 1941 г.): «Не тужи, голубчик Мстислав, о фараонах, подождут, как ждали более 3-х тысяч лет, пока ты не вырастешь». И в заключение писал: «Целую тебя, твой Добужинский». (Так он подписывал и письма своему сыну, моему папе.) Мы с ним за то время, что я у него прожил в Петербурге, стали друзьями и переписывались.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: