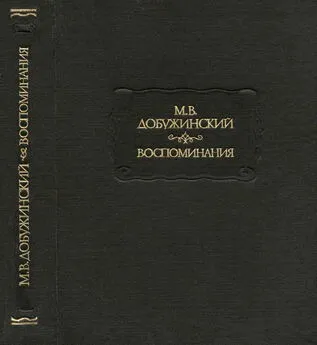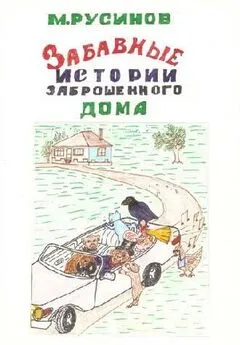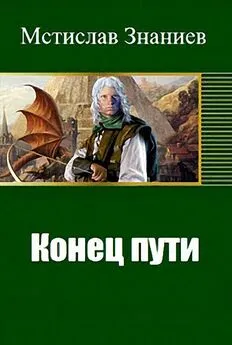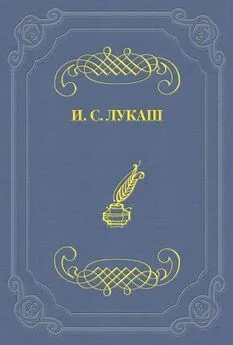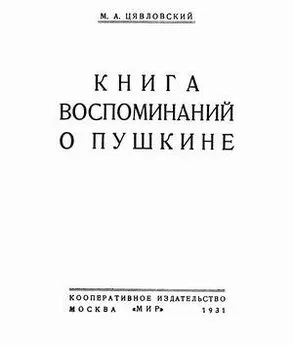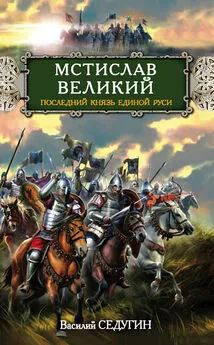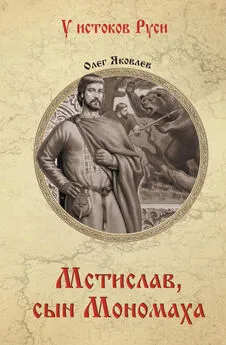Мстислав Добужинский - Воспоминания
- Название:Воспоминания
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:1987
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мстислав Добужинский - Воспоминания краткое содержание
Воспоминания - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Однажды я отправился на Выборгскую сторону посмотреть на наш дом, где прошло все мое детство. Уже многое за два года изменилось, ворота с чугунными орлами исчезли, и над всем зданием появился новый, четвертый, этаж. Я с грустью вошел в знакомый двор, поднялся по нашей широкой лестнице, где, как и прежде, пахло кошками и было холодно, подошел к самым дверям нашей квартиры, где оставались еще дырочки от гвоздей медной дощечки с нашей фамилией. Там жили какие-то незнакомые люди. Я постоял и повернул обратно. Тогда же я заглянул к старому деду, у которого была лавочка в заборе у нашего дома со стороны Симбирской улицы, где в детстве я покупал леденцы и стручки. Когда я ему напомнил о моем отце, который некогда выхлопотал ему эту лавочку, старик вдруг стал на колени, перекрестился и сказал: «Навеки благодарен я благодетелю моему, твоему батюшке, господь его благослови!»
Мне было одиноко, несмотря на частые свидания со Сташей, я очень скучал без моего папы, хотя любил дядю Федю. И с тех пор всю жизнь был очень привязан к этому исключительно доброму, очаровательному и всеми любимому человеку. Но я не мог, конечно, оценить тогда замечательную умницу и на редкость образованную женщину, его жену, тетю Асю. Она была требовательна и строга и иногда раздражительна, так как уже тогда у нее начинался мучивший ее кашель и чахотка, сведшая ее в могилу. И — да простит она нас — мы со Сташей прозвали ее «тетя Оса». Я был еще совсем мальчишкой и серьезно обижался, когда она уверяла, что мы со Сташей, собственно говоря, макаки, убежавшие из Зоологического сада, что я еще не разучился плакать, и дядя, подтрунивая над этим, прозвал меня Мотя — Матрешка, баба.
Лишь года через три, уже незадолго до смерти тети, я и Сташа имели возможность узнать ее лучше (мы гостили у нее на даче) и ее очень полюбили.
Игорь подрастал и был любимцем тети. Он действительно был прелестный трехлетний мальчик с необыкновенной памятью и всех умилял, читая наизусть разные стихи.
Этот год в Петербурге кончился для меня печально: за «тихие успехи» я был оставлен на второй год в 4-м классе.
Теперь предстояла новая перемена: давнишняя мечта отца жить в Вильне наконец осуществилась: он был переведен туда на службу из Кишинева, и мне надо было оставить Петербург и перейти в Виленскую гимназию.
Вильна была мне немного знакома, и я любил вспоминать Пасху, проведенную там у моих дяди Феди и тети Аси, у которых теперь жил в Петербурге, и я с волнением ждал, что опять увижу этот город, который так мне нравился, но не знал, что впоследствии у меня вырастет такое родное чувство к нему: оно было как бы «голосом крови»…
С петербургской гимназией я расстался с еще меньшей печалью, чем с кишиневской, но Петербург от Вильны был совсем близко, и мы со Сташей утешались возможностью свиданий. Так оно и было впоследствии, в Петербург я приезжал каждый год до самого окончания гимназии — или на Рождество, или на Пасху, или летом, — и все это было, как праздник. Эти приезды меня освежали и всегда чем-нибудь обогащали, и я все время мечтал, чтобы когда-нибудь снова начать жизнь в Петербурге и остаться уже там навсегда.

О[тец] был назначен командиром 5 батареи 27 артиллерийской бригады. В Вильну он переселился уже зимой 1888–1889 гг., я же оставался в Петербурге в гимназии, и, когда в июне мы с няней и братом Игорем собрались к нему, он находился со своей частью в лагере, в Оранах, недалеко от Вильны, куда мы и направились перед тем, как обосноваться на зиму в Вильне. Там мы жили, как на даче. Лагерь был весь в зелени, и воздух был необыкновенной чистоты, полный смолистого духа. Рядом протекала, извиваясь по дну глубокой балки, речка Оранка с крутыми песчаными берегами. В этой небольшой долине посреди сосен густо разрослись кусты орешника и в жару всегда было душно. Я часто забирался туда ловить жуков для своей коллекции насекомых и купался в офицерской купальне. Там позже я нарисовал один из первых «настоящих» моих пейзажей.
Окрестности лагеря были плоские и монотонные — песчаные поля с чахлыми посевами, усыпанные камнями и валунами, почти как в Финляндии; тут и там виднелись низенькие сосновые перелески; иногда на пригорках росли в одиночку или группами высокие сосны; горизонт замыкала темная линия далеких лесов. Этот тихий и грустный литовский пейзаж я видел впервые.
В двух-трех верстах от лагеря лежало полуеврейское местечко Ораны — серые деревянные домишки, теснившиеся по обеим сторонам единственной улицы.
Местечко питалось лагерем и было очень оживленное, на домиках пестрели вывески, часто очень забавные, как у портного и парикмахера. Насколько припоминаю, это были произведения никому неведомых предшественкиков Шагала [161] . Помню совсем допотопную вывеску: обнаженная согнутая в локте рука, из которой кровь бьет закругленным фонтаном, и надпись: «Здесь кровь отворяют и пиавки ставят». Эти «пиавки», извивающиеся в банке, тут тоже были изображены. Была еще замечательная надпись на воротах: «Здесь продается парное молоко и разные щетки».
В лагере мы жили с отцом в его большом бараке вроде дачи. С раннего утра до меня доносились разнообразные музыкальные звуки, меня будившие: где-то за конюшнями трубачи разучивали разные (очень мелодичные) артиллерийские сигналы — я знал их все наизусть еще со времени Кишинева, — а в сосновой роще настраивал инструменты духовой оркестр. Я любил прислушиваться к этому странному и почему-то очаровательному хаосу звуков…
По вечерам ежедневно происходила в лагере церемония «зори». После переклички по всему длиннейшему фронту выстроившихся в один ряд солдат, ровно в 9 часов, взвивалась ракета, и палила очередная пушка, а затем вдоль всей линии лагеря начинала течь красивая и сложная мелодия, которую выводили в унисон трубачи каждой бригады, одни отставали, другие перегоняли и под конец где-то вдали одиноко замирали последние трубные звуки.
После этой музыки по тому же длиннейшему фронту раздавалось стройное и нестройное солдатское пенье вечерней молитвы. Когда и оно затихало и становилось совсем темно, солдаты еще распевали лихие или заунывные солдатские и деревенские песни в своих палатках.
Их палатки тянулись позади линии пушек и зарядных ящиков, а за ними пролегала через весь лагерь березовая аллея — «офицерская дорожка», по обеим сторонам которой стояли маленькие деревянные бараки офицеров. Это было место встреч, флирта, прогулок. В лагере было много дам и детворы, жили семейно. В тылу лагеря расположены были «службы» — конюшни, сеновалы, швальни, шорни, цейхгаузы («чихаузы», как говорили солдаты) и солдатские кухни.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: