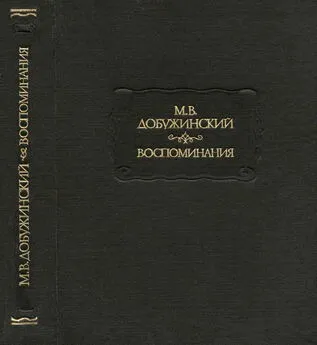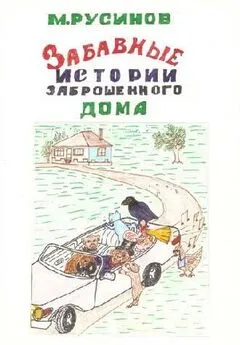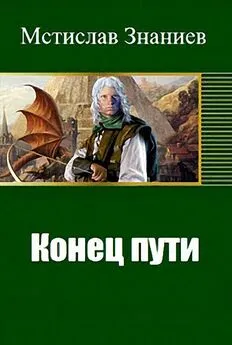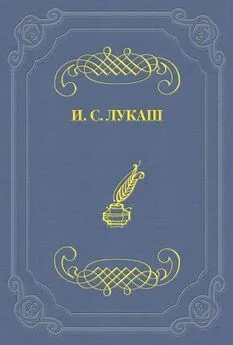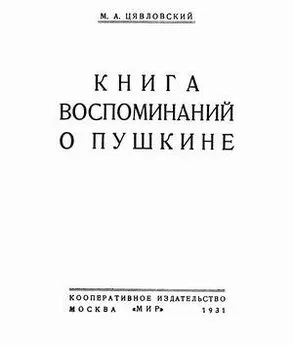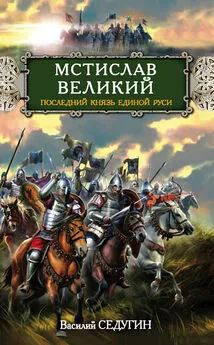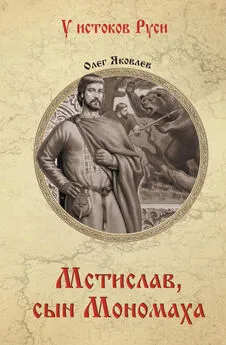Мстислав Добужинский - Воспоминания
- Название:Воспоминания
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:1987
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мстислав Добужинский - Воспоминания краткое содержание
Воспоминания - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В быту гимназической жизни привлекательного было мало. Учителя держались по-чиновничьи, официально, и некоторые наводили смертельную скуку, но они были довольно безвредны, и их мы меньше дразнили, чем в петербургской гимназии.
Директор Бржезинский, со своей круглой рыжей бородой, в синих очках и синем вицмундире, показывался редко, был сумрачен, с постоянным выражением какого-то отвращения на лице. Но это был человек спокойный и, как позже мы убедились, очень порядочный и добрый. Мы его уважали.
Оригинальной фигурой был наш батюшка — протоиерей, отец Иоанн Берман. Все знали, что он крещеный еврей (и кажется, из кантонистов), был учен — кончил духовную академию — и объяснял предмет интересно. Но в классе его не очень любили — был сердит и придирчив. Вскоре после моего поступления он помер и перед смертью получил высочайшее разрешение переменить фамилию на Медведева.
Мои новые товарищи были симпатичные, умели хорошо подсказывать, передавать шпаргалки и делились со мной подстрочниками.
В моем 4-м классе, на «камчатке», как в гимназиях называлась последняя скамейка, заседали ветераны — второгодники, один был даже чудо-третьегодник. Они басили, а некоторые уже брились. Вся эта компания через год исчезла из нашей гимназии и нашла приют в Шавельской [гимназии], куда охотно принимали наших неудачников.
В нашей гимназии были ученики четырех разных вероисповеданий — и было четыре законоучителя: у православных — о. Берман, у лютеран — корректный пастор Брик, а у католиков — маленький, приветливый ксендз Олехно. Класс еврейского закона божия вел рыжебородый Вольпер, носивший, как все учителя, вицмундир с золотыми пуговицами. Нас интриговало: о чем между собой беседовали в учительской эти четверо толкователей веры?
Все православные гимназисты обязаны были ходить в нашу церковь по субботам и воскресениям, чего не требовалось ни в Петербурге, ни в Кишиневе, но в «северо-западном крае», политически продолжавшем быть подозрительным, это требовалось по высоким государственным соображениям.
В собор мы шли, предварительно собравшись в гимназии и проверенные, парами и по росту, как институтки. В этом соборе св. Николая — очень красивого рококо, — переделанного из костела св. Станислава, приходилось выстаивать всю бесконечную архиерейскую службу в тесноте и духоте (я раз чуть не лишился чувств). Может казаться маловероятным, но на торжественных богослужениях должны были присутствовать гимназисты не только православные, но и католики и лютеране. Лишь евреи были освобождены.
Все эти церковные обязанности только смущали мою религиозность, даже вредили ей, и мне уже и в голову не приходило пойти самому, по собственной инициативе в православную церковь, между тем с детства, с Новгорода, я так любил уютную и сердечную атмосферу православной службы, особенно всенощной, но теперь я предпочитал костелы. В Вильне они были замечательной красоты, полные света и торжественности, и было истинное наслаждение слушать в них могучие звуки органа […]
Нас старались воспитывать в патриотическом духе и этому должна была служить… наша гимнастика. Руководил ею Ос. Ос. Струсевич, веселый поручик Троицкого пехотного полка (носивший фуражку с белым околышем и имевший чрезвычайно красные губы и ярко-рыжие бакенбарды), который нас также учил и военному строю, — что было только что тогда введено в гимназиях, — командуя звонким и бодрым голосом: «Ать-два, ать-два, ряды вздвой, смирна-а!» На войне 1914 г. он оказался, говорят, необыкновенным храбрецом и заслужил Георгия. Под его дирижерством мы распевали воинственные песни: «Взвейтесь, соколы, орлами» и «Многи лета, многи лета, православный русский царь, дружно-громко песня эта пелась прадедами встарь». С этими песнями 1 мая мы отправлялись всей гимназией, маршируя в ногу, через весь город, в Закрет на «маевку» — единственное приятное воспоминание о моей гимназии. В лесу мы дурачились и веселились, и даже некоторые учителя вылезали из своих футляров, а иных мы даже качали (а одного раз уронили).
Труднее всего мне давались древние языки, a extemporalia (письменные переводы на латинский и греческий языки) были одно мучение. Мы зубрили, как в петербургской и кишиневской гимназии, этимологию и синтаксис обоих языков и засоряли память невероятным количеством исключений, причем эти исключения, изложенные в учебниках стихами, запоминались навсегда, а сами правила забывались! (до сих пор помню, конечно, предлоги «Ante, apud, ad, adversus» и т. д. или из слов других на «us»: «tribus, arcus, porticus, idusiduus, domus, manus» или «vulgus» — «чернь — простой народ, имеет чаще средний род» и прочая дребедень). Из-за деревьев не было видно леса: классическая гимназия меньше всего знакомила с самим классическим миром, и о мифологии и об античном искусстве я несравненно больше знал из домашнего чтения. Когда я находился в 7-м класе, министр Зенгер оказал гимназистам великое благодеяние — отменил ненавистные extemporalia, на которых все «резались», и в то же время велел нас знакомить с греческими и римскими древностями. В классе появились таблицы с изображениями вооружения греческих и римских воинов, колесниц и проч., но очень скучные и нас мало заинтересовавшие.
Я вообще не был способен к языкам, лишь помогала хорошая память, и в результате от многолетнего изучения древних языков, кроме тех исключений, запомнилось несколько отрывков из «Илиады», басня Эзопа «О мухах», немного строф из «Метаморфоз» Овидия и кое-что еще [176] , может быть несколько больше, чем помнил Онегин, и то только потому, что самому хотелось заучить все это, а не по принуждению. Латинские и греческие уроки были для меня самой настоящей «трудовой повинностью». (Выражения этого тогда еще не знали.)
В общем, мало кто из учителей мог в нас возбудить интерес к предмету, только в начале моего учения в Виленской гимназии я с удовольствием изучал… географию.
Про нашего учителя географии — старика с орлиным носом, Сергеева, у которого через весь лоб шел большой шрам, ходила легенда, что это след от индейского «томагавка», и, хотя других доказательств, что он путешествовал по Северной Америке, не было, — мы верили.
Я с увлечением стал тогда чертить географические карты, не только как урок, но для себя. Меня еще в детстве занимали формы материков и островов, извивы рек и цветные зигзаги границ. Все это я рассматривал еще маленьким на тех рельефных картах двух полушарий, что висели на стене моей детской, над самой кроватью. Теперь я еще внимательнее стал всматриваться в географические очертания и силуэты и замечал необыкновенное изящество их и как бы органическую структуру. Я любил также находить разные странности в береговых линиях и контурах разных земель, озер, заливов и не только видел «льва» в Скандинавии, «даму» в Англии, «сапог» в Италии, меня удивляли и странные повторения некоторых географических очертаний (напр., Пелопоннеса и галлиполийского «трезубца», голландского Зюдерзее и каспийского залива Карабогаза, одинаковые косы — Мемельская в Прибалтике и Кинбурнская в Крыму и забавляла курьезная закорючка мыса у Бостона, и мне хотелось побывать во всех этих уголках. (Впоследствии, во время моих странствий, я действительно попал и в Голландию, и на Мемельскую косу, и на тот американский завиток (Cape [177] Cod), побывал и в «пасти» скандинавского льва, и в «голенище» итальянского сапога.)
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: