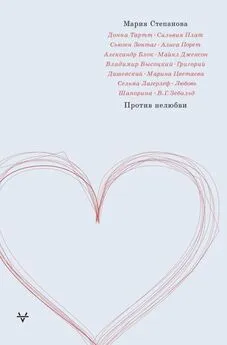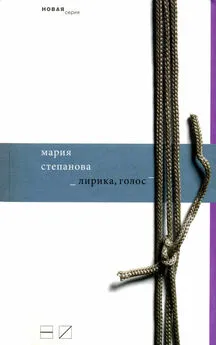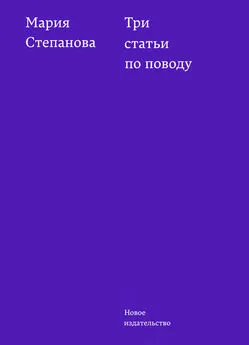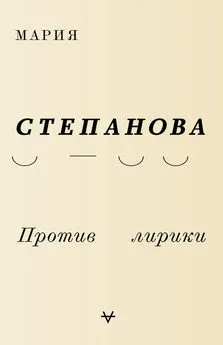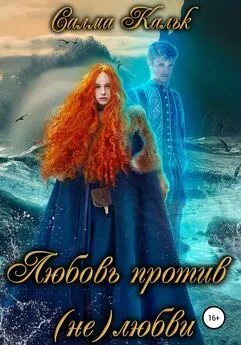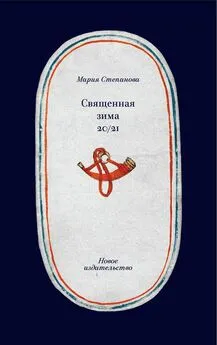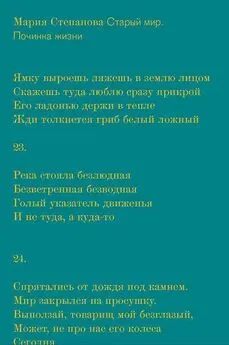Мария Степанова - Против нелюбви
- Название:Против нелюбви
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-110963-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мария Степанова - Против нелюбви краткое содержание
Против нелюбви - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Книга начинается со света и безлюдья (а оно в свою очередь начинается с отсутствия я: Ни себя, ни людей/ нету здесь, не бывает). Это пейзаж земли после конца – но скорее сразу после сотворения, в третий день, когда свет уже отделен от тьмы, земля видна и полупуста, и сияние заповеди опережает саму возможность человеческого присутствия.
Что это за заповедь? Мы знаем, что она светоносна, что она предшествует всему видимому и названному (сныть, лопух, комар), и что у нее есть имя: закон.
Еще у заповеди есть оппонент, и он тоже назван по имени – страдание. Чистое страдание, не имеющее носителя (а значит, предела), но ведающее уже добро и зло: будто пилит злодей, а невинный страдает, побледнев добела. Здесь, в сослагательной тени длящегося «будто» уже, как в зерне, зреет вопрос Иова. В невечернем свете закона, описанного Дашевским, злодей вечно злодействует, а невинный мужественно терпит, и этому беззаконию нет конца и названия.
Противостояние закона и несправедливости – хотя скорее речь идет об их мирном сосуществовании – и невозможность с этим смириться составляют неподвижный сюжет стихотворения. Все, что происходит здесь – только предчувствие, обещание; в отсутствие человека зло и терпенье еще не имеют лица, а любовь (ни разу не названная по имени) объекта. На безлюдьи закон не препятствует беззаконию, а страдание не в силах затемнить сияние заповеди; это что- то вроде обоюдного пакта о ненападении: никто никому не мешает, заповедь сияет, страдание стонет (и у него своя светоносная белизна, белизна бледности).
Комариный писк объединяет палача и жертву, того, кто пилит, и того, кто плачет, в один непрекращающийся стон твари перед лицом Создателя. Стон этот бесконечен и невыносим, но он не мешает ровному сиянию закона, отраженному в комарином крылышке. В этом не-разговоре звука и света нет участников, нет предмета для спора, будущее вечно остается отсроченным, Иов еще не родился, все впереди. Ближнего здесь нет, и неназванная заповедь любви может быть обращена только на сам источник света. Это заповедь, данная Моисею: «и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею и всеми силами твоими», если можно так сказать, в первой редакции: до Христа, но после Авраамовой жертвы. Мы в днях Ветхого завета, в безвременьи еще неискупленного страдания – закона без благодати. Именно в этих координатах расположена последняя книга Дашевского.
Второй и третий ее тексты странные, как все лучшие стихи Г.Д., которые часто устроены сходным образом. Работает это примерно так же, как в его эссеистике, где, когда дело доходит до дела, автор предпринимает вот что. Он как бы смещается вдруг куда-то вбок от предмета разговора, и оттуда, с внезапно увеличившегося расстояния, как с острова, говорит: «Это как если бы…»
«Как если бы человек видел такой сон: он украл банку в магазине и его бьют кассиры – а рассказывая, говорил: за что они меня били? Я ничего не делал – я же просто спал».
«Как если бы уже перейдя к химии от алхимии, человек радовался, что те, кто верит в алхимию, ценят его ранние опыты, и сам начинал условно гордиться – если бы система была верной, то я в ней сделал много хорошего».
«Как если бы сказали: прочти гинекологич<���еское> описание своей невесты, а чего там нет и будет ее душа».
Таких «как если бы» в статьях и записях Дашевского можно насчитать множество. И выглядит это так, словно, для того, чтобы объяснить себе простое «что происходит» – любую расстановку социальную, литературную, бытовую – ему необходимо даже не вынуть ситуацию из инерционных пазов, чтобы увидеть ее по-новому, – но скорее сверить ее с тем, как это выглядело бы в другом мире, где соотношения заострены, а контрасты проявлены в куда большей степени, чем это привычно нам. Эта новая резкость дает возможность нового понимания: словно с тем, кто видит мутно, нужно говорить на языке простых вещей, на пальцах, спичках, яблоках. Мне всегда хотелось посмотреть, что получится, если оторвать эти exempla от источников, вызвавших сравнение к жизни, и собрать их вместе: так, чтобы получилось что-то вроде каталога ситуаций с общим для всех, как родимое пятно, смысловым смещением.
Эти примеры-пояснения в текстах Г.Д. имеют общие свойства. Во-первых, они конструируют аналогию как площадку, где разворачивается действие, почти не совпадающее с тем, что обсуждается: действие, как бы параллельное ему, и при этом имеющее другую, гротескно заостренную природу – как если бы Карамзина надо было объяснять с помощью Кафки. Во-вторых, именно эта площадка оказывается сердцем текста, выделенной зоной, находящейся не здесь и не там – зоной своего рода этического суждения, выносимого голосом, не вполне совпадающим с авторским. Это своего рода оракул, который, кажется, всегда говорит одно и то же (но это то же можно применить к разным вещам, книгам, ситуациям).
Больше всего происходящее похоже на басни, но такие, в которых действовали бы не гуси и мужики, а, скажем, силы и престолы. Что такое басня, в самом деле? Рассказ о других: нездешних, не похожих на нас, вовлеченных в не совсем понятные нам обстоятельства. А действия их становятся постижимы («так вот что все это значило!») только на освещенном пятачке – когда, как орех в гусиный клюв, в басню вкладывается так называемая мораль.
Но именно так устроены и многие стихи Дашевского – как эмблемы с потерянным (или нарочно вынесенным за скобки) пояснением: возможно, потому, что объяснение заслоняет увиденное, а само изображение настолько тревожно, что ставит под сомнение возможность ясного вывода. Главный их признак – неутолимая тревога, как если бы мы в одном быстром взгляде обнаружили, что мир лежит на каких-то других, нечеловечьих основаниях, и тут занавеску быстро задернули. Так оно и в «Нескольких стихотворениях и переводах», где нет ничего утешающего, кроме этой пустоты – ясности отсутствия, и кажется, что и самому автору от этой ясности легче.
Первые стихи книги написаны именно так – как басни про кого-то вроде метерлинковских душ, волнующихся перед появлением на свет. Здесь мир до (рождения) или сразу после (смерти), освещенный отсутствием (необходимости быть) тоже показан как другой и странный – как если бы на стены платоновской пещеры проецировали самурайский фильм.
В странном этом рассеянном свете стихи Дашевского закольцовываются сами на себя, разыгрываются безостановочно, как мистерия без зрителей (или хотя бы Зрителя, как было в «Думе Иван-чая», в блейковской первонатальной тьме). Но там еще только готовились к переменам: близнецы спрашивали друг друга, «что потом? вдруг Китай за стенками брюшины?», иван-чай выходил из дремотного грунта, похож на зарю, как брат. В новой книге видящее око утрачено, не принадлежит никому; зарю увидеть нечем, и незрячее я не может различить, что вокруг – братская тьма или ровный негаснущий свет застенка, в котором тонут и спящий ребенок, и марсиане, настаивающие на собственном отсутствии (из которого следует и отсутствие тех, кто их допрашивает), и тот, кто о них свидетельствует.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: