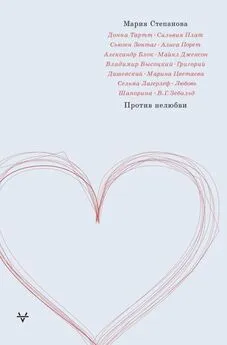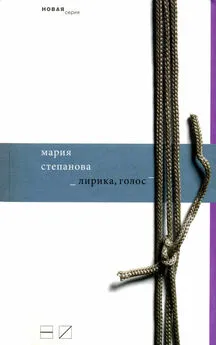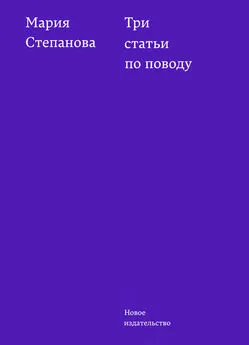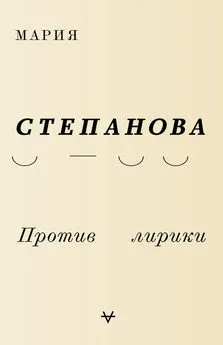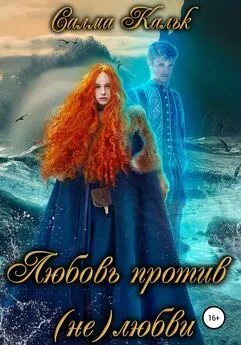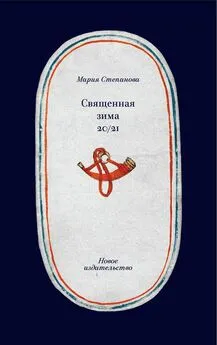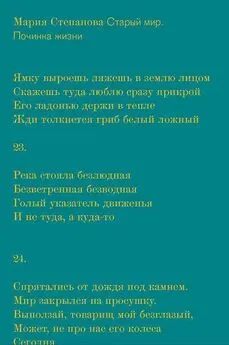Мария Степанова - Против нелюбви
- Название:Против нелюбви
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-110963-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мария Степанова - Против нелюбви краткое содержание
Против нелюбви - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Стихотворение «Нарцисс», закрывающее и закольцовывающее книгу и жизнь, заканчивается кодой, которая читается как «наконец-то» – чистым, физически ощутимым выдохом, меньше всего имеющим отношение к спасти – скорее к сохранить. Ситуация двух последних строф смутно рифмуется с забыться-и-заснуть, с лермонтовской Русалкой (где на песчаном дне спит витязь, добыча ревнивой волны):
Но вот вокруг становится темно.
Лишь небо светло, как Нарцисс
в глубокой тьме ручья.
Он жив, блаженно дышит.
Прохладная струя
то волосы колышет,
то мягко стелет дно.
Свет и тьма, немота и незрячесть (глаза, закрытые наконец в жесте закукливания, закупоривания, как закрылся пол у рильковской Эвридики) сливаются здесь в окончательном счастливом равновесии, растворяя говорящего в сказанном.
Здесь надо сказать хотя бы несколько слов о последнем стихотворении Дашевского, тоже не включенном им в книгу, хотя по причинам – кажется мне – другого рода. «Орлы», как он не мог не понимать, один из лучших текстов, им написанных (и, как понимаем мы, один из лучших текстов, написанных по-русски). Стихи датированы первым декабря 2013 – и, значит, написаны за две с небольшим недели до смерти.
Благодарю вас ширококрылые орлы.
Мчась в глубочайшие небесные углы,
ломаете вы перья клювы крылья,
вы гибнете за эскадрильей эскадрилья,
выламывая из несокрушимых небесных сот
льда хоть крупицу человеку в рот —
и он еще одно мгновение живет.
Искать здесь аллюзии, кажется, бессмысленно, но не потому, что их нет (контекст стихотворения предельно широк и может захватывать самые разные элементы: от советской песни, где крылья рифмуются с эскадрильей («В последний бой, за край родной летит…») до последних стихов Хармса и Введенского. При желании можно вспомнить и сюжет толкиеновского «Хоббита», где орлы выступают в функции deus ex machina, нежданного и невозможного спасения. Все это в равной мере любопытно и несущественно – и не потому, что отсылки не работают. Дело скорее в том, что отсылкой (в жанре «см. выше») является все стихотворение целиком, десятками тонких интонационных ниток привязанное к поэзии высокого лада – с ее неизбежной иератической важностью. Оно с самого начала ориентировано на существование среди немногих себе подобных – недвусмысленно и немедленно определяемых по самой походке стиха. Формирование этого невидимого канона чем-то похоже на практику написания поэтических «памятников», но здесь задача формируется не так линейно: говоря очень общими словами, можно сказать, что это тексты, мыслимые авторами как итоговые, находящиеся на полуотлете от остальных – и что повествовать они при этом могут о чем угодно: то, что их роднит, не смысл, а звуковая форма и особого рода отрешенность. Ряд, в котором только и можно читать эти стихи Г.Д., в русской поэзии довольно короткий: что-нибудь от «Отцы-пустынники и жены непорочны» до «К пустой земле невольно припадая» и аронзоновского «Как хорошо в покинутых местах».
Этот внезапный способ письма совсем не похож на (вычитающий автора, трактующий происходящее с ним как естественный ход вещей) порядок, объединяющий тексты последней книги. Больше того, Г.Д., кажется, даже не замечает, как минует ловушку, описанную им в предисловии к «Думе Иван-чая», где я лишается прав на невинность и особость, а вместе с ними и права на приподнятую речь, которая принадлежит не ему, а глухонемому идолу, только и умеющему, что произносить с нажимом «Чайковской! Ария Гремина!». В «Орлах» речь именно что идет от лица особого и, возможно, даже невинного я— другое дело, что я это расширяется от неба до неба (все действие стихотворения разворачивается на небесах, в их глубоких углах и ледяных крупитчатых сотах – ничто не намекает на то, что источник речи хоть чем-то привязан к земле) и действительно принадлежит каждому из живущих. Больше того, по ходу чтения внезапно понимаешь: тот, кого ценой собственной гибели пытаются спасти орлы, и тот, кто сейчас говорит и благодарит – не обязательно одно лицо. Жест спасения обращен на человека вообще: кого угодно – смертного – Кая. И это, пожалуй, самое удивительное происшествие стихотворения, его свидетельство, его благая весть. Известие, что содержится в тексте Дашевского, оказывается общеупотребительным – в степени не меньшей, чем выбранные им когда-то в качестве образца повседневные пожалуйста и спасибо.
Ведение и благодарность, разделенные этими стихами со всеми желающими, предельно далеки от благодушия.
То, что обещают «Орлы», не спасение, а усилие к продлению жизни – по крупице, отмеряя, как порошок на кончике ножа, мгновение за мгновением и не больше того. В системе «Нескольких стихотворений и переводов» эта, по чайной ложке, минутная отсрочка смерти воспринималась бы, возможно, как тягостное бремя: приращение древнего груза страдания. Здесь это недвусмысленное, однозначное благо: с трудом добытое (мы видим, как строка вырастает на несколько стоп от ощутимого нами, буквально разделенного физического усилия: выла-мы-ва-я из несокру-ши-мых небесных сот…), без условий принятое (и он еще одно мгновение живет).
Говорить о том, на что это все больше всего похоже, я буду с предельной осторожностью. «Несколько стихотворений и переводов», на мой взгляд, осознанно существуют вне поля Нового Завета, в, если можно так выразиться, дохристианской раме, где естественный ход событий заканчивается спуском в Аид или нисхождением в Шеол – что, собственно, и описано в книге. Известно, что составлялась она, по крайней мере первоначально, для единственного читателя: о. Стефана Красовицкого, задавшего вопрос, который в системе книги можно расценить как тот самый. Отвечал Дашевский на вопрос «Что вы сейчас пишете?», но характер собранного им текста-послания имеет в виду другое: «Каково вам сейчас? и что вы об этом думаете?». Его сейчас полностью исключает для себя всякую надежду на спасение извне – до такой степени, что небытие кажется счастливейшим из возможных исходов. То, что адресатом такого письма оказывается не просто поэт-собеседник, но поэт-священник, только кажется удивительным: христианство, в числе прочего, еще и школа точности, близкая той дисциплине самонаблюдения и постоянного перевода с внутреннего языка на внешний, которая была для Г.Д. повседневной необходимостью.
Происходящее в «Орлах» как бы не нуждается в пересказе и пояснениях: это «Антипрометей» (по свидетельству Михаила Гронаса, так и называлось это стихотворение в его разговорах с Дашевским). Орел, безучастное орудие пытки, клюющий печень мученика, здесь претерпевает невероятную метаморфозу. Прежде всего, он многократно мультиплицируется – «за эскадрильей эскадрилья» – так что орлы похожи на ангельские легионы (и это боевые ангелы-истребители на самолетных крыльях). Ощущение бесконечной множественности этой армии спасения усугубляется повтором «перья клювы крылья», где отсутствие запятых создает что-то вроде зеркального коридора: речь идет не о перечне увечий, которые можно исчислить и перебрать через запятую, но о новых и новых атаках, волна за волной расшибающихся о несокрушимость небесного порядка. Орлы не инструмент божественной воли, они сами и воля, и жертва: свободно действующая сила любви, внешняя инстанция, приходящая на помощь, когда все уже потеряно, и погибающая, чтобы отсрочить человеку приговор хотя бы на мгновение – и еще одно – и еще.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: