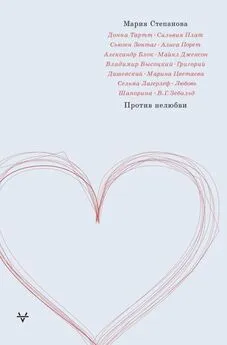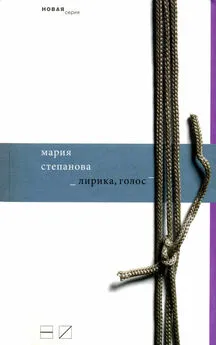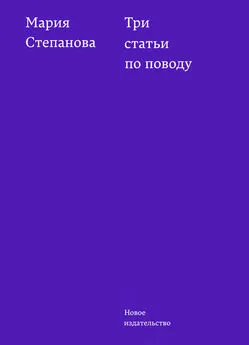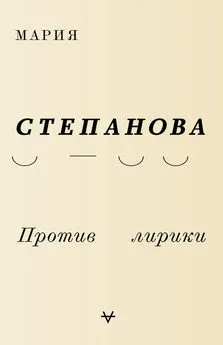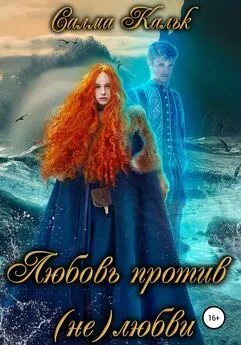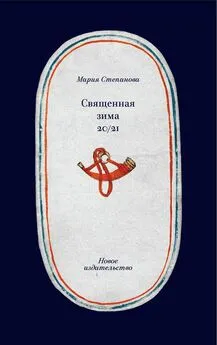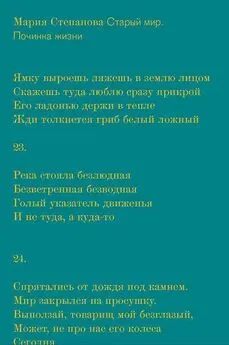Мария Степанова - Против нелюбви
- Название:Против нелюбви
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-110963-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мария Степанова - Против нелюбви краткое содержание
Против нелюбви - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Винфрид Георг Зебальд, рожденный в Германии в 1944-м; свое имя, немецкий аналог советских Иосифов, Владленов и Октябрин, он обозначал пунктиром, инициалами В.Г. – домашние звали его Макс. Имя, под которым он печатался, как и язык, на котором писал, были частью сложной (и, безусловно, мучительной для него) системы долговых обязательств. Его жизнь рассказывается в нескольких абзацах, посмотрим, хватит ли одного: контур судьбы изгнанника (Манна, Канетти, Беньямина), но выбранный самолично; годы преподавательской работы, несколько опубликованных книг, написанных по-немецки, понемногу, потом помногу растущая слава, с которой он пытался не быть накоротке – с учтивостью (почти нездешней) давая точные, сухие, очень взвешенные интервью, не-участвуя и не-отказываясь. Потом внезапная гибель в автокатастрофе – ранней зимой, 14 декабря 2001-го.
Первой и последней книгой В. Г. Зебальда, вышедшей пока по-русски, стал именно «Аустерлиц» – его последний большой прозаический текст (их и было-то всего четыре – и два, «Головокружение. Чувство» и «Кольца Сатурна», имеют минимальное отношение к его устоявшейся репутации тематического автора, пишущего о Холокосте), самый известный и в наибольшей степени похожий на конвенциональный роман или то, что принято им считать. Все, что следует ниже, – своего рода попытка поговорить о Зебальде так, словно он уже переведен, опубликован, прочтен, словно его работа уже стала частью нашей кровеносной системы (как ей следовало бы) – и можно смотреть на нее не из окна экскурсионного автобуса, а широкими глазами общности.
Зебальд называл свои книги documentary fiction: странный жанровый гибрид, зависающий, как огромный дирижабль, в пограничной зоне между было и не было, где читательская чувствительность сознает себя особенно уязвимой. Большая (бо́льшая) часть полемики вокруг его книг разворачивается в этой зоне. Неясный, мерцающий статус зебальдовского нарратива как бы провоцирует читателя произвести над текстом операцию, называемую наводкой на резкость, уточнить события, подтянуть к лицу трудноразличимые детали. Их базовая, неучтивая неучтимость, их легкая выворачиваемость наизнанку – возможно, главное качество зебальдовской прозы, где главные вещи всегда зашиты глубоко в текст (и готовы взорваться, как мины – или быть найденными, как детские тайники). Подлинный характер текста остается открытым. О чем, собственно говоря, идет речь? Что именно подвергается чтению: выдуманная история, снабженная (для убедительности или выразительности) реальными фактами и деталями? Или мы наблюдаем за оживанием документа, настоящего прошедшего, которое автор раскрашивает, как черно-белую фотографию, усилием воображения? Бывшее и небывшее постоянно вылезают за собственные края – как это бывает при печати, когда краска заезжает за контур изображения. Тревожный фокус зебальдовской прозы – ее двойная экспозиция: глубокая убедительность/убежденность, свойственная точному знанию – и при этом странная призрачность любой подробности, каждого эпизода, словно они растворятся в воздухе, если их потрогать. Эта «аура сияния и дрожи, делающая их очертания неразличимыми», как говорит Зебальд о некоторых фразах Роберта Вальзера, окружает корпус его собственных текстов чем-то вроде облака. Так Зевс окутал Ио темным облаком, чтобы войти к ней незамеченным.
Проза, развоплощающаяся по ходу прочтения (снова Зебальд о Вальзере), держит читателя в неуверенности: мы никогда не знаем, dichtung или wahrheit в конечном счете то, что рассказано и проиллюстрировано очередной невыразительной фотографией (на которой сарай, вывеска или часы-луковка). Единственное, чему тут можно довериться, – голос, говорящий с нами; он оказывается чем-то вроде перил, на которые можно опереться. Происходящее напоминает старинные рассказы о масонских ритуалах: завязанные глаза, коридоры и переходы, сделанные вслепую; нежданные вспышки света, слепота и ясность.
Отчетливо видны в этих солнечных пятнах только изображения, неизменный компонент зебальдовского текста, что-то вроде подписи или печати, по которой следует опознавать руку мастера. Характера они самого разного, но больше всего фотографий, старых, архивных. Некоторые сильно и грубо увеличены, так что зерно лезет наружу, и почти все как-то маловыразительны и являют по большей части совершенную растерянность всех участников съемки: люди со стертыми чертами остаются где-то у кромки изображения, огромный фон теснит их все дальше, и все лица кажутся скорее типическими, чем собственными, причем усы, воротники и пуговицы говорят громче, чем им позволено. Есть и новые, «современные» фотографии, успевшие состариться, но такие же неготовые к сотрудничеству, – любительские снимки фасадов и интерьеров, архитектурных объектов и ресторанных вывесок, все черно-белые и выглядящие так, словно их наскоро сняли на телефон. Что еще? Рецепт домашнего шнапса, записанный дедом Зебальда на странице календаря. Ксерокопии визитных карточек, туристических проспектов, железнодорожных и садово-парковых билетов, видовых открыток и географических карт. Еще больше пейзажей, гор, лесных дорог и холмов, снятых нетвердой рукой, с многочисленными размытостями. Некоторое количество картин и гравюр, помещенных в текст так же – в режиме беглого цитирования, черно-белой плоской скороговоркой.
У них отсутствуют два качества – они, как правило, не цепляют, что бы это ни значило, у них (за немногими исключениями) в помине нету той специального рода пыльцы, соблазняющего начала, делающего картинку влекущей, приближающей ее к зрителю. Все, что происходит на них, – демонстративно бытового, будничного свойства.
Более того – и это тоже важно – оно не имеет к нам решительно никакого отношения. Всего этого больше нет. Это относится ко всем: к летним горожанам на крыльце какого- то дома, к целому классу семилетних школьников, глядящих в объектив, странным образом умудряясь не встретиться с нами взглядом, оказаться полностью, совершенно миновавшими. На всех этих фотографиях представлена популяция бывших людей – прошедших безвозвратно, вытесненных начисто. И то, что кто-то из них имеет некоторый шанс оказаться прадедами и прабабками, почти ничего не значит. По крайней мере, это не отменяет, а возвышает градус сочувствия. «Такое впечатление, сказала она, будто там внутри происходит какое- то легкое движение, будто слышится чей-то горький вздох <���…> словно у этих картинок есть своя память и они вспоминают нас, какими мы, оставшиеся в живых, и те, кто уже не с нами, были когда-то».
Как ни странно, картинки (фотографии, и именно старые) в их кроткой замкнутости часто вызывают у критиков Зебальда что-то вроде раздражения; логика и смысл их молчаливого участия в тексте почему- то будоражит читателя. Популярность зебальдовских книг такова, что найдется много охотников выяснить дочиста, с чем именно они имеют дело, с докьюментари или мокьюментари, и фотографии могут свидетельствовать за обе версии. Многочисленные вопросы к автору «Эмигрантов» в жанре «был ли мальчик» – а это действительно ваш дядя Амброз? – еще одна попытка установить точные границы между реальностью и вымыслом с тем, возможно, чтобы очертить себе пределы допустимого сочувствия. И то сказать: реального дядю было бы жалко до слез, но если речь идет о фикшн – мы уже, надо понимать, можем позволить себе комфортную отстраненность.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: