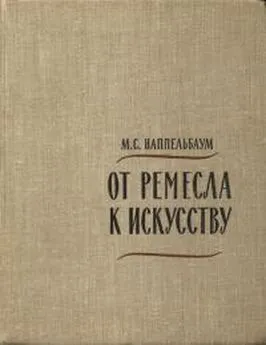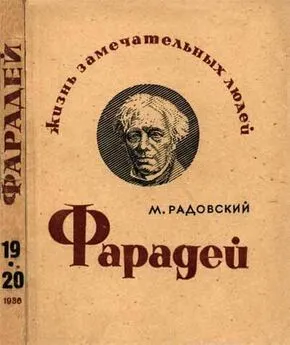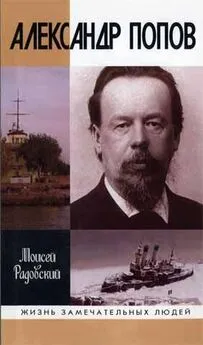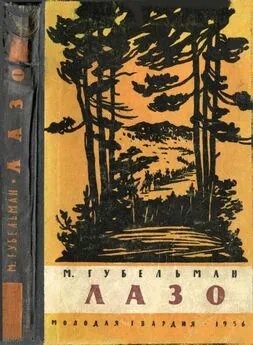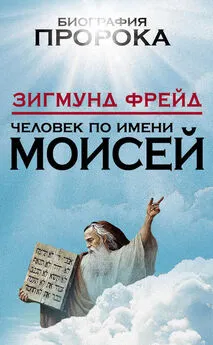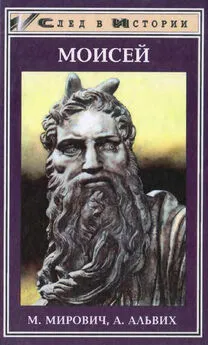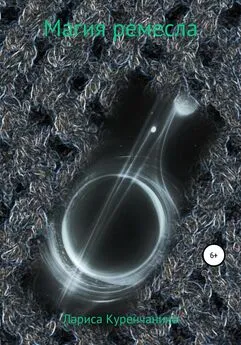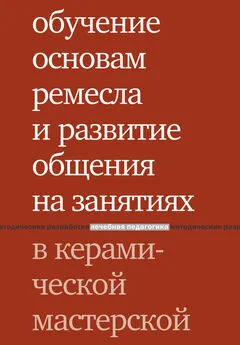Моисей Наппельбаум - От ремесла к искусству
- Название:От ремесла к искусству
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Искусство
- Год:1958
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Моисей Наппельбаум - От ремесла к искусству краткое содержание
От ремесла к искусству - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Уровень профессиональной портретной фотографии был катастрофически низок. В угоду коммерческим целям здесь процветала пошлость, безвкусица. Образовались как бы разные миры в фотографической среде. Один был миром культурных творческих людей, они выступали в печати, участвовали в выставках, были членами Русского фотографического общества, занимались техническими усовершенствованиями и т. п. Другой мир — профессионалы, которые жили на доходы от своего мастерства. С. Морозов в книге «Русская художественная фотография» пишет, что «в Русском фотографическом обществе ...относились к профессионалам-портретистам как к ремесленникам, с нескрываемой холодностью». Он прав, для большинства из нас (а в особенности провинциалов) теоретические споры, выступления в прессе, участие в выставках и т. п. — все это было недосягаемо. С горечью должен признать, что пренебрежительное отношение к профессионалам было отчасти оправданным. В массе своей профессиональная портретная фотография была ремесленнической. А в Минске это особенно остро чувствовалось.
Вот поэтому я и покинул Минск и переехал в Петербург. Неодолимая сила влекла меня в столицу с ее культурой, театрами, картинными галереями, шедеврами архитектуры. Никакие трезвые рассуждения не могли меня остановить. И был убежден, что только в столице, в культурной, образованной среде я смогу добиться успехов в фотоискусстве.
В 1912 году я уехал из Минска навсегда. Само собой разумеется, что переезд в Петербург оказал решающее влияние на мою работу.
ПЕТЕРБУРГ
В Петербург я приехал уже немолодым человеком. Мне удалось повидать достаточно много городов и в России, и в США, но петербургская архитектура превзошла все мои представления о красоте.
Несмотря на то, что я был поглощен мыслями о своей личной неустроенности в жизни, в перерывах между поисками работы я часами простаивал на Аничковом мосту, рассматривая клодтовских коней, неутомимо шагал по набережной Невы, не переставая восторгаться фальконетовским «Медным всадником»; с горечью думал о том, что фотографии недоступна такая мощь движения и такая сила экспрессии; беспрестанно кружил вокруг Александрийского театра, испытывал несказанное эстетическое наслаждение от архитектурного ансамбля Росси, от Казанского собора. Я бродил по Марсовому полю, любовался скульптурами в Летнем саду и не переставал думать, как далеко еще фотографии до подлинного искусства, как низка ступень ее развития, как мало художественности в портретах, которые были выставлены даже в лучших петербургских фотографиях.
В те времена в Петербурге ведущее место в фотографии занимали придворные фотографы. На Невском, на Миллионной, на Морской улицах красовались витрины фотографов «его императорского величества» — Боассана и Эглер, Жукова, Ясвойна, Булла и других. Была витрина женщины-фотографа Мрозовской и других. Высокий уровень техники отличал их работы, со вкусом оформленные, заметно было умеренное использование бутафории. В портретах Боассана и Эглер была удивительная тонкость и мягкость. Но все это, за редким исключением, была та же самая «изящная светопись», где главенствовала пресловутая «поза». К тому же витрины хороших мастеров встречались только на центральных улицах. На петербургских окраинах уровень снимков зачастую был ниже, чем в некоторых провинциальных фотографиях, в которых работали добросовестные фотографы, в свое время широко известные И. Д. Хмелевский, М. Н. Дмитриев, С. А. Лобовиков и другие. Были и новаторы нашего дела, но в царской России фотографы были разобщены, имена многих остались неизвестными.
Только сейчас, оглядываясь на прожитую жизнь, я понимаю, какой рискованный шаг совершил, приехав в Петербург без средств и знакомств, не имея права на жительство. Буржуазный заказчик требовал прежде всего роскошной обстановки, он не пошел бы в бедно обставленную мастерскую, как бы ни были хороши ее работы. Я не имел возможности купить самую скромную фотографию, о мебели же в стиле Людовика XIV или XV, барокко или рококо и говорить нечего. И все же энергия, настойчивость, фанатическая уверенность в своем будущем одолели все препятствия. Разумеется, не сразу. Немало пришлось мне помытарствовать, прежде чем удалось окончательно обосноваться в столице.
Я бывал несправедлив, когда жестоко порицал фотографическую среду за мещанство, за озлобленность, за конкуренцию; ведь никто иной, как фотограф по фамилии Флакс, первый принял живое участие в моей судьбе. Он был членом ремесленной управы и выдал мне свидетельство на право жительства, как наклейщику фотокарточек. Но этому документу я и проживал в Петербурге вплоть до революции.
Началось с того, что я вступил в соглашение с фотографом Лежоновым и работал вместе с ним. Но мне не дано было право на самостоятельность. То была фотография, убитая стандартом. Преодолеть его, не будучи хозяином положения, не было никакой надежды. У Лежонова были свои взгляды на фотографию, свои приемы и навыки, которым, по его мнению, я обязан был подчиняться. Вкусы и потребность буржуазного заказчика, который, прогуливаясь по Невскому проспекту, заходил сняться, также не способствовали избавлению от шаблона, сковывали всякую творческую инициативу. Я почувствовал себя и тупике.
Тогда я принялся искать путь, где бы мог приложить свои силы. И нашел этот путь в работе для печати.
Товарищество Издательского Дела «Копейка» выпускало богато иллюстрированный журнал «Солнце России». Это был первый журнал, применявший способ глубокой печати. Журнал иллюстрировался на технически более высоком уровне, чем «Нива», значительно шире откликался на жизнь страны, выпускал приложение, которое состояло из одних иллюстраций. Я отнес в редакцию свои минские работы, они понравились. Впоследствии я стал постоянным сотрудником журнала, печатал там самые технически сложные портреты. Кроме меня в «Солнце России» сотрудничал фотограф М. А. Шерлинг. Мы оба старались уйти от общепринятого в фотографии канона, но шли разными путями.
М. А. Шерлинг работал в своей мастерской в домашней обстановке, дневным светом. Большинство портретов были высокохудожественными произведениями. Портреты Ф. И. Шаляпина в разных ролях сделаны особенно талантливо и интересно, с замечательным проникновением в трактовку образа, в своеобразие игры великого артиста. Работы М. А. Шерлинга имели несколько камерный характер, а заказчиком был сравнительно узкий привилегированный круг общества.
Я же в своей работе, и тогда, и впоследствии, в течение всей моей жизни стремился к более широкому отражению действительности, искал художественно значимый материал в разных слоях общества, пробовал свои силы в разных жанрах.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: