Владимир Немирович-Данченко - Избранные письма. Том 1
- Название:Избранные письма. Том 1
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Искусство
- Год:1979
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Немирович-Данченко - Избранные письма. Том 1 краткое содержание
Избранные письма. Том 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Жизнь Художественного театра составляет основное, если не всепоглощающее содержание писем обоих его основателей, начиная со дня их знаменательной встречи в «Славянском базаре» и кончая последними днями жизни каждого из них. В своей совокупности эти два эпистолярных потока открывают для нас самый достоверный и потому самый драгоценный первоисточник истории МХАТ. Но, сливаясь в едином русле летописи «трудов и дней» театра, письма каждого из них сохраняют самобытность творческой личности автора, его предшествующей биографии, его преимущественных интересов и стремлений, его особого вклада в общее дело театра.
{32}В письмах Немировича-Данченко с наибольшей полнотой разворачивается идейно-творческая программа Художественного театра на всех этапах и по всем главнейшим линиям ее исторического развития. В них сосредоточена история создания репертуара Художественного театра, в «идейном направлении» которого Немировичу-Данченко всегда принадлежала ведущая роль. Широким потоком вливается в его письма то, что он любил называть «чеховским началом», «горьковским началом», «толстовским началом» в искусстве МХАТ. Станиславский считал Немировича-Данченко тончайшим, проникновенным психологом и непревзойденным интерпретатором литературного стиля. Мы видим, как проблемы стиля и психологии, составляющие содержание многих писем Немировича-Данченко, перерастают в проблемы мировоззрения, когда он раздвигает привычные границы сцены для новой драматургии Чехова и Горького, для эпоса Достоевского и Толстого.
Перед нами проходит ряд этапных спектаклей Художественного театра, поставленных Немировичем-Данченко совместно с К. С. Станиславским и единолично, начиная с «Чайки» и «На дне» и кончая «Тремя сестрами» (1940) и «Кремлевскими курантами» (1942). Правда, ни один из этих спектаклей не обретает на страницах письма полноты сценической зримости, ни один из них не отражен в подробных описаниях, не реконструирован литературно. Зато письма красноречиво говорят о процессе их создания и о борьбе режиссера за их дальнейшую полноценную сценическую жизнь. Письма, связанные с процессом постановки того или иного спектакля, погружающие нас в живую атмосферу текущих репетиций, дают, как уже сказано выше, чрезвычайно многое для понимания того огромного вклада в методологию МХАТ, который исходит из режиссерского творчества Немировича-Данченко.
С другой стороны, историей МХАТ, ее необходимыми звеньями становятся для нас многочисленные письма, посвященные организационно-творческой стороне театрального дела в разные периоды и прежде всего — созданию и воспитанию труппы-ансамбля Художественного театра. Это письма главы театра, который, как это редко бывает, сочетает в себе качества художественного руководителя и художественного {33}директора. Это его принципы организационного планирования, исходящего всегда и во всем из творческих, художественных задач театра, из коренных, глубинных интересов его искусства. Это его абсолютно всесторонний охват жизни театра, включающий в кругозор директора-руководителя не только общественно-творческую, но и сугубо материальную, финансовую, производственную и бытовую ее стороны. Это его последовательная, упорная борьба за этическую чистоту театра, его строительство творческой дисциплины, основанное на убежденном коллективизме и на требовательном внимании к каждой отдельной личности, входящей в состав коллектива театра. И все это, вплетаясь в эпистолярную летопись «трудов и дней» МХАТ, тоже становится его историей.
Но если спросить себя, каким предстает общий облик театра сквозь грани его истории, отражаемой в письмах Немировича-Данченко, невольно приходят на память слова, написанные им однажды И. М. Москвину; это — «Художественный театр в своем брожении, исканиях, мучениях, сомнениях, надеждах, отчаяниях и проч.». То же самое мы, конечно, найдем и в письмах Станиславского. Но письма Немировича-Данченко о Художественном театре явственней концентрируются вокруг узловых, переломных моментов его истории, вокруг тех кризисов его искусства, в которых решалась его дальнейшая судьба, от преодоления которых зависело его будущее.
Его творческой личности всегда было мучительно свойственно то, что мы теперь так часто и так легко называем «чувством нового». У Немировича-Данченко это «чувство нового» далеко не ограничивалось наблюдательностью и отзывчивостью по отношению к новым веяниям жизни. Еще того менее оно определялось стремлением быть «с веком наравне» в изобретении новых и острых форм театрального искусства. Нечего и говорить о том, до какой степени оно было чуждо какому бы то ни было конформизму или моде. «Чувство нового» у него было органической потребностью постоянно поверять искусство, которому он служил, теми идеалами современности, в которые он верил, и теми ее запросами и требованиями, которые ему представлялись плодотворными и решающими. В. Г. Сахновский когда-то хорошо сказал, что Немирович-Данченко {34}стремится только к такому искусству, которое по-своему «разговаривает с самой жизнью современников». Отсюда все острые углы этого его «чувства нового», вся неизбывная его тревожность, отсюда и тот вечный экзамен, которому он подвергает и себя, и Станиславского, и любимейших своих учеников-актеров, и весь театр сверху донизу, с его прошлым и настоящим, с его традициями и перспективами. Об острых углах и мучительных противоречиях здесь нельзя не говорить потому, что это «чувство нового» всегда оборачивалось для Немировича-Данченко каким-то социальным и художественным императивом, невозможностью жить в искусстве по-прежнему, необходимостью крутых поворотов и труднейших преодолений. Это неизбежно и мучительно обостряло его отношения с окружающими и, конечно, с К. С. Станиславским прежде всего. Это приводило его иногда к необъективности тех или иных итоговых оценок, к гиперболичности выводов, к несправедливым упрекам (особенно явственно это видно из некоторых его писем 1905 – 1907 или 1911 годов, но это же сказывается по временам и значительно позже). Кроме того, как, вероятно, у всякого большого художника, «чувство нового» у Немировича-Данченко, при всей свойственной ему обостренной общественной чуткости, далеко не всегда оказывалось безошибочным в своей исторической и даже социологической основе (в этом смысле можно понять, например, обиду Горького, вызванную его подробнейшим, во многом психологически справедливым, но все же явно односторонним анализом «Дачников»; сюда же относится и ряд его неоправдавшихся надежд и увлечений новейшей драматургией 10‑х годов). Все это стоило ему тяжких страданий, тем более что театр привык ждать от него, как от руководителя, неизменно верных провидений и безошибочных, «мудрых» решений. Недаром в один из таких моментов у него вырывается в письме почти с отчаянием: «Ведь я же не пифия, а такой же человек, как и все!..»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
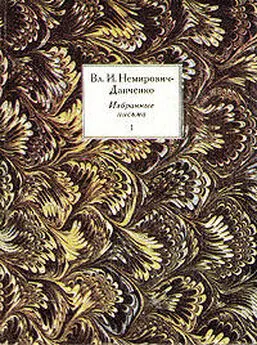

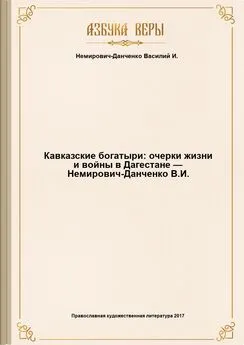
![Василий Немирович-Данченко - Двойная старуха [Фантастика Серебряного века. Том VIII]](/books/1090686/vasilij-nemirovich.webp)