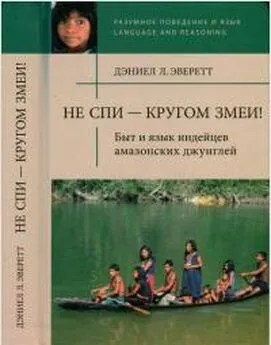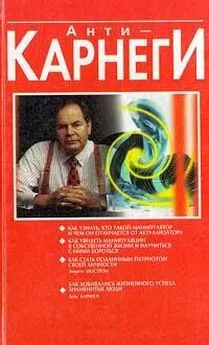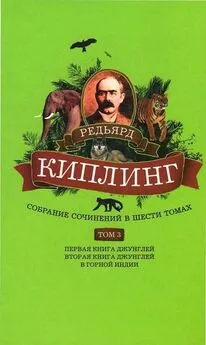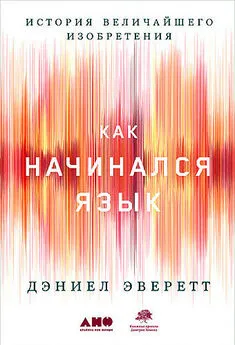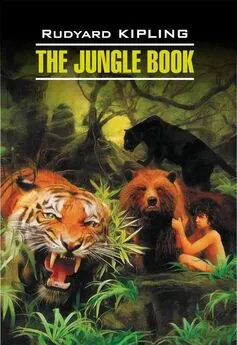Дэниел Эверетт - Не спи — кругом змеи! Быт и язык индейцев амазонских джунглей
- Название:Не спи — кругом змеи! Быт и язык индейцев амазонских джунглей
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дэниел Эверетт - Не спи — кругом змеи! Быт и язык индейцев амазонских джунглей краткое содержание
Эта книга, которую можно отнести одновременно и к мемуарам, и к лингвистическим работам, представляет собой интересный взгляд на природу языка, его связь с мышлением и культурой.
Не спи — кругом змеи! Быт и язык индейцев амазонских джунглей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
К этому обсуждению нужно добавить два соображения. Во-первых, у детенышей обезьян формировались категориальные классы объектов благодаря тому, что они, пусть и без лексического сопровождения, но взаимодействовали с предметами (с бутылочками пепси-колы). Эти манипуляции и послужили тем необходимым внешним фактором (воздействием извне), который в кооперации с генетическим фактором и обеспечил образование предметных категорий.
Во-вторых, в этой же статье С. Ваксман описывает свои попытки сформировать у младенцев адъективную категорию, объединяющую, к примеру, фиолетовые предметы. Ни в 12, ни в 14 месяцев подобные категории у младенцев не формировались. Этот факт дает основание для двух выводов. Во-первых, в представлении ребенка этого возраста качества еще не вычленяются из синкретической смеси свойств предмета. Во-вторых, в такой ситуации (без начальной и сугубо когнитивной дифференциации) лексика — воспринимаемые ребенком прилагательные — не способна побудитьвычленение соответствующих свойств и начать формировать новую (адъективную) видовую категорию. Воспринимаемые младенцем слова могут ускорять дифференциацию лишь тех свойств,которые уже начали обособлятьсяв результате его сугубо когнитивного развития.
Итак, начальную дифференциацию свойств предмета обеспечивает генетически фактор, а далее включается внешний фактор, который ускоряет и завершает эту дифференциацию. Если же фактор внешней среды отсутствует, то генетически начавшееся развитие останавливается и остается на прежнем синкретическом уровне.
4.4. Роль цвета в жизни современных людей и индейцев пираха.Вернемся в свете сказанного к описательному цветообозначению у индейцев пираха: черный — «кровь грязная», красный — «оно как кровь» и под. Такие аналоговые обозначения соответствуют уровню когнитивного развития ребенка, не достигшего 3 лет, у которого отдельные цвета еще на вычленились из синкретичного цветового спектра. Разумеется, индеец пираха прекрасно распознает отдельные цвета (красный, зеленый и др.). Но, подобно ребенку, он не может прямо их назвать (только опосредованно, отсылая к предмету с известным цветом). А значит, в его языке в принципе не могут появиться цветообозначающие прилагательные.
Объяснение данного вывода вытекает из проделанных выше рассуждений. Генетически ребенок пираха идентичен современному ребенку. Поэтому в его развитии возникает начальная дифференциация конкретных цветов. Но для ее усиления и завершения в кооперацию с генетическим фактором должно вступить воздействие извне. Но этого-то как раз и не происходит.
В самом деле, у современных детей имеются целых три внешних фактора, ускоряющих начавшуюся дифференциацию конкретных цветов. Во-первых, это цветообозначающие прилагательные красный, зеленый и др., которыми окружающие люди постоянно называют цвета видимых детьми предметов. Во-вторых, это активная деятельность ребенка по распознаванию цвета как такового, поскольку цвет необычайно информативен в мире современного человека. Дело в том, что этот мир в огромной степени состоит из артефактов, имеющих не натуральные, а произвольные цвета. У ребенка может быть несколько одинаковых игрушек, различающихся только цветом. Это же касается и предметов одежды, мебели, наконец, карандашей и красок, которыми ребенок рисует и т. д. И в этих случаях цвет является единственным отличительным признаком предмета, ср.: Возьми красную лошадку; Надень черные туфли и синюю рубашку; Я люблю желтые розы; Она покрасила волосы в фиолетовый цвет, а ногти — в черный и под. Цвет нередко несет конвенциональную символическую функцию (светофор). Наконец, в-третьих, это рисование цветными карандашами и красками, когда ребенок сам выбирает цвет рисуемого объекта. Как мы видим, в современном мире цвет — самостоятельный и зачастую главный отличительный признак предмета.
У ребенка пираха все иначе. Первый внешний фактор у него очевидным образом отсутствует: в языке пираха нет лексических коррелятов прилагательных красный, зеленый и под., напрямую именующих цвета. А описательные наименования цветов типа ‘оно как кровь’, конечно же, не могут выступать в этой функции. Отсутствуют и два других внешних фактора. Индейцев пираха окружает природный мир со своими естественными и неизменными (или закономерно изменяющимися) красками. Артефактов, имеющих случайный цвет, очень мало (простейшие предметы одежды, инструменты и под.). Да и их индейцы не выбирают, а получают (выменивают) более или менее случайным образом. Правда, в некоторых случаях цвет все-таки является информативным, например, зеленый цвет описывается как ‘оно незрелое’. Но и тут цвет, как правило, не является единственным критерием. Если в магазине могут продаваться, скажем, зеленые бананы, то у индейцев пираха они висят на банановом дереве, пока не пожелтеют. И их незрелость видна не только по их цвету, но и по другим признакам: цвет и состояние листьев дерева, спелость других плодов, созревающих одновременно с бананами и пр. Наконец, у индейцев пираха совершенно отсутствует склонность к рисованию, включая традицию наносить на свое тело символические узоры.
Таким образом, различные цвета в мире пираха не несут самостоятельной информационной функции. А значит, начавшаяся у ребенка пираха дифференциация синкретичного цветового спектра не получает поддержки извне и потому не трансформируется в полную дифференциацию. Повторимся: ребенок пираха, конечно же, будет различать по цвету одинаковые предметы, например два яблока — красное и зеленое. Он лишь не сможет непосредственно назвать эти цвета, поскольку они не концептуализированы в его цветовой палитре.
Справедливость проведенных рассуждений подтверждается следующим фактом. Современный человек использует для называния различных цветовых оттенков множество опосредованных обозначений: аметистовый (amethyst), бронзовый (bronze), медный (copper), морковный (carrot), каштановый (chestnut), шоколадный (chocolate), янтарный (amber) . Как мы видим, они совершенно аналогичны цветообозначениям в пираха или, скажем, в языке вальбири: yalyu-yalyu — в буквальном смысле ‘кровь-кровь’, а фактически ‘выглядит как кровь’, yukuri-yukuri — ‘трава-трава’, или ‘выглядит как трава после дождя’, и под. [Дронов, наст, изд.: 317; Wierzbicka 2008: 410]. Можно полагать, что эти оттенки, ввиду своей незначительной роли в жизни современного человека (в сравнении с основными цветами), не концептуализировались в его цветовой палитре, поэтому актуализация названного оттенка в сознании осуществляется посредством актуализации типичного носителя этого оттенка. Например, в услышанном выражении шоколадный загар цвет реконструируется через представление шоколада, а не непосредственно, как при восприятии выражения красный шарф [170] Можно возразить: а разве некоторые опосредованные обозначения цвета в восприятии современного человека не актуализируются непосредственно? К примеру, нередки случаи, когда женщина, никогда не видевшая ни фисташек, ни оливок, тем не менее свободно (и правильно) использует цветообозначения фисташковый и оливковый. Как нам кажется, эти обозначения все же остаются для нее опосредованными. Просто роль образца вместо природного объекта играет запомнившийся ей артефактный объект называемого цвета.
.
Интервал:
Закладка: