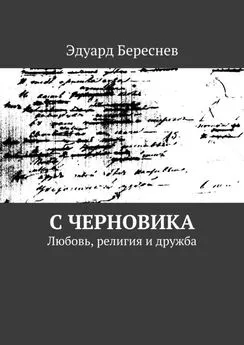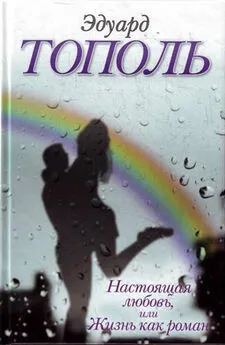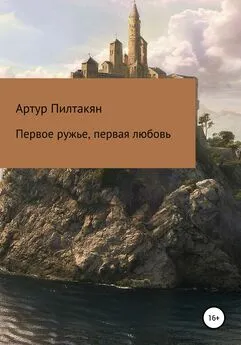Эдуард Надточий - “Первая любовь”: позиционирование субъекта в либертинаже Тургенева
- Название:“Первая любовь”: позиционирование субъекта в либертинаже Тургенева
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Логос # 5/6 2003 (35)
- Год:2002
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эдуард Надточий - “Первая любовь”: позиционирование субъекта в либертинаже Тургенева краткое содержание
Данная статья написана на основе доклада, прочитанного в марте 2000 год в г. Фрибурге (Швейцария) на коллоквиуме “Субъективность как приём”. Пользуясь случаем, хотел бы выразить организатору коллоквиума Игорю Кубанову свою признательность за стимулирующее участие в подготовке данного доклада
“Первая любовь”: позиционирование субъекта в либертинаже Тургенева - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В. Первая любовь: эрос или агапэ?
Т. о., можно условно провести следующее функциональное сопоставление: субъект как способ полагания основания человеческого существования, основывает свой способ конституирования другого на Эросе, на эротическом развёртывании любви — и этому соответствует ограниченная суверенность и контрактный тип социальной связи, тогда как размыканию тавтологии субъективности соответствует агапическое конституирование субъекта, исходящее из Другого, парадоксальным образом проявляющее себя логикой соблазнения(“и жар соблазна вздымал, как ангел, два крыла крестообразно”). При этом второй способ конституирования не имеет онтологической реализации, не проектируется в бытие сущего как господство свободно волящего субъекта над материей своего существования.
В этой оптике становятся понятны принципы, по которым строится развитие сюжета и в “Первой любви”, и в “Опасных связях”. Связи эти опасны именно тем, что действующие в романе либертины всегда стоят перед смертельной опасностью любви — эроса или агапэ. Идёт дуэль, в которой должен победить тот, кто сохранит максимальную интенсивность состояния апатии. Соблазнения — средство сохранять состояние апатии и повышать его интенсивность. В конце концов обнаруживается, что Вальмонт теряет состояние апатии — прежде всего потому, что начинает чувствовать к либертинке графине де Мертёй нечто вроде чувства любви, или, во всяком случае, демонстрирует меньшую интенсивность силы соблазнения в их дуэли. Он перестаёт быть господином мира и погибает.
Подобную же дуэль ведут отец рассказчика и Зинаида. После изложенной программы либертинского поведения ясно, что принципы, которыми они руководствуются — принципы либертинажа, и страх впасть в любовь — не нечто пустое, а вопрос жизни и смерти, вопрос потери состояния апатии и превращения в жертву чужого удовольствия. В этой дуэли внешним, поверхностным образом проигрывает Зинаида. Именно все стадии её пути к поражению фиксируются рассказчиком. Если булавку доктору в палец она вкалывает вполне с либертинским удовольствием, то свои садистские упражнения с рассказчиком она уже сопровождает приступами жалости. Она размышляет над своим чувством любви, голова принимает в этом участие — но она с сожалением подчёркивает, что её сердце не может не любить, что страсть завладевает ей. Она попадает под власть химеры любви. Переживает она потерю апатии трагически. И есть от чего печалиться! Финальная стадия, в которой вполне вспоминается Сад, показывает нам полную перемену экономии наслаждения применительно к собственному телу: Зинаида нисходит на уровень удовольствия жертвы — уровень пассивного (“мазохистского”) удовольствия. Её конечная гибель при родах с этой точки зрения совершенно логична: дать рождение другому существу — само отрицание либертинского существа [27].
Но что интересно — и здесь Тургенев выходит за рамки либертинских схем 18 века — выигравший отец в момент своего максимального торжества как садистского палача — когда жертва целует рубец от его кнута на своей руке — также “внезапно” теряет состояние апатии. Он внезапно бросает хлыст и вбегает в комнату, чтобы обнять Зинаиду — им завладела если не любовь, то как минимум жалость. Тургенев подчёркивает потерю им своего либертинского статуса однозначно: когда рассказчик спрашивает, где он уронил свой хлыст, отец отвечает, что он свой хлыст не уронил, а бросил. Уронил — случайное действие, происходящее помимо воли, тогда как бросил — это действие активное и сознательное. Брошенный хлыст — это символ утраты либертинской апатии. Недаром отец после этих слов “задумался и опустил голову” (с.71) И есть от чего! Рассказчик в первый раз видит, сколько нежности и сожаления могут выразить строгие черты его либертина — отца. В дальнейшем рассказчик с горестью констатирует, что его отец опустился до того, что мог о чём-то молить свою жену, до этого бывшую исключительно жертвой, и даже, к ужасу мальчика, плачет. Это — уже катастрофа. Его смерть через несколько дней — уже само собой разумеющееся следствие. “Бойся женской любви, сын мой” — только и мог завещать он начинающему либертинский путь его сыну. В развитие либертинских схем Тургенев демонстрирует — и это едва ли не основная тема его творчества — что женская любовь для желающего сохранять либертинскую апатию — катастрофична вне зависимости от того, желает он этой любви или нет, отвечает он на неё взаимностью или нет.
С этой точки зрения на более глубинном уровне проигравшая сторона — это всё-таки отец. В позиции жертвы Тургенев выявляет ресурсы, неведомые либертинажу 18 века, возможные только после становления романтизма. Дело в том, что мужской и женский либертинаж оказываются функционирующими по разной логике и в несовпадающих пространствах. Либертинаж мужчины — это либертинаж экономии удовольствия, рациональной регуляции нервных импульсов. Либертинаж женщины, как выясняется в последних главах повести, но также и в скрытой разработке темы лошади и коня, в способах прорыва либертинского топоса сквозь романтический, и, между прочим, в фигуре доктора — медиатора этих двух топосов, — это либертинаж сил природы и экономии трансцендентного, рождаемого в круге природного имманентизма. Только женщина в мире Тургенева способна на жертву “по-настоящему”, вне контроля со стороны “идей” (даже Инсаров в “Накануне” продолжает быть ведом “идеями”, понадобилось внедрить ему известный идиотизм, чтобы ограничить влияние “идей” более утончённых) — и эта жертва оказывается более мощной, чем стратегия классического либертинажа. В этой связи интересно сравнить тургеневскую девушку с Жюстиной. Жюстина — пассивная “жертва добродетели”, как бы фигура руссоистской природы. Безусловно веря в добрые начала встречаемых ей людей, она непрерывно оказывается жертвой самых чудовищных форм “пользования наслаждением” со стороны окружающих, демонстрирующих подлинное лицо природы человека. Нельзя не заметить, что она проводит по-своему эффективную — в садистском смысле — тактику защиты, также накапливая состояние интенсивности апатии. Она не вовлекается в мир зла, и жертвенно верит в торжество добра, которое последует непременно в конечном итоге как следствие существования высших, божественных сил. Здесь Де Сад обыгрывает поэтику христианских жизнеописаний святых. Поэтому Жюстина, противопоставляя накопление жертвенности своим мучителям — либертинам, в конце концов таки вырывается из их мира — но здесь, в соответствии с инфернальным юмором Сада, вмешиваются те самые высшие силы — в заключительной сцене торжества добродетели и вознесения хвалы Господу её убивает молния. Эти силы врываются на сцену именно в соответствии с логикой веры самой Жюстины в трансцендентное, веры во внезапное торжество Благодати. Ход, надо сказать не далёкий от типичных тургеневских схем (к примеру, внезапной смерти Базарова или Инсарова или внезапной развязки “Дворянского гнезда”). Иными словами, в поэтике тургеневской девушки прослеживается развитие тех линий поэтики Сада, которые позволили архаическому литературному канону второго либертинажа предстать освежением шаблонизированного романтизма.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: