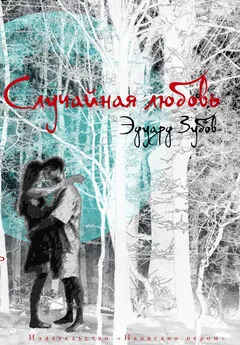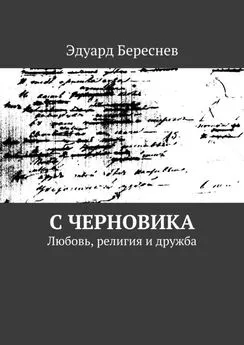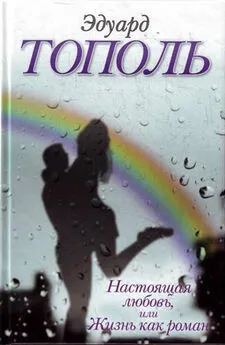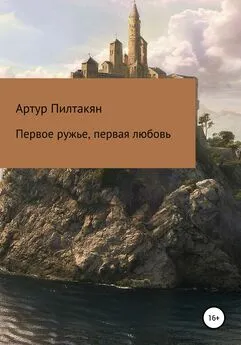Эдуард Надточий - “Первая любовь”: позиционирование субъекта в либертинаже Тургенева
- Название:“Первая любовь”: позиционирование субъекта в либертинаже Тургенева
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Логос # 5/6 2003 (35)
- Год:2002
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эдуард Надточий - “Первая любовь”: позиционирование субъекта в либертинаже Тургенева краткое содержание
Данная статья написана на основе доклада, прочитанного в марте 2000 год в г. Фрибурге (Швейцария) на коллоквиуме “Субъективность как приём”. Пользуясь случаем, хотел бы выразить организатору коллоквиума Игорю Кубанову свою признательность за стимулирующее участие в подготовке данного доклада
“Первая любовь”: позиционирование субъекта в либертинаже Тургенева - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В следующей сцене, когда мальчик встречает своего отца с Зинаидой и Беловзоровым на конной прогулке (конь Беловзорова опенён, что указывает, что скачка была серьёзной), мы видим, что отец начинает побеждать, и это подтверждается не только его позицией (“опёршись на шею лошади” Зинаиды), но и дополнительной символикой цвета: “Он (Беловзоров) красен как рак, а она… Отчего она такая бледная? ездила верхом целое утро — и бледная.” Красный человек с фамилией Беловзоров и неестественно бледная Зинаида. Что это? Эта оппозиция белого и красного в противопоставлении с оппозицией лошади (Зинаида и отец на лошадях) и коня (Беловзоров на коне) — создаёт крайне любопытное уравнение, в котором конский элемент обретает более широкое символическое значение, чем простая ассоциация женщины и лошади. Здесь бы я хотел упомянуть и сон, который рассказывает Беловзоров в салоне у Зинаиды, — именно перед её собственной историей о королеве, которой все восхищаются, но ей владеет другой, который ждёт её в саду у фонтана: это сон, в котором лошадь с деревянной головой ест карасей. Сон отнюдь не нелепый и не безобидный. Рыба — это и символ жертвы, и символ существа абсолютно холодного (а карась, наряду с пескарём, в русском сознании — воплощение апатичности, “караси — мастера жариться в сметане”). Лошадь же с деревянной головой, позволю себе предположить, это лошадь, совместившая в себе характерным, не оставляющим сомнений образом черты лошади и коня — это страшная фаллическая лошадь в состоянии абсолютной интенсивности эрективности, своего рода “фаллос без органов”. Почему же всё-таки лошадь? Почему женское начало? Здесь та же амбивалентность, что и в выяснении проигравшей в дуэли либертинов стороны. Очень любопытный сон… (Он заставляет вспомнить на заднем плане ещё и о троянском коне — вероятней всего, троянском коне жертвы, которую готовит “королева” “ждущему у фонтана”. Т. е. этот сон как раз свидетельствует, в конечном итоге, отнюдь не об амбивалетности, а об однозначности того, кто кого ест…). [30]
Так или иначе, но именно после этой сцены, построенной на контрапункте романтических переживаний мальчика на прогулке с увиденной им конской сценой, Зинаида предлагает подростку “любить её не так, как прежде”, но дружески, как старшую сестру, фиксируя тем самым его новый статус. Не даром ещё перед прогулкой она, в ответ на отказ мальчика принять участие в конных скачках, заявляет: “вольному воля, спасённому… рай” (с. 47) [31]. Подросток — спасён (вместо него погиб, причём в последующем реально — отправившийся на прогулку Беловзоров, именно он заместил подростка на месте необходимого жертвенного третьего в треугольнике векторов силы битвы либертинов). Впрочем, до подлинного спасения ещё далеко, он “произведён в пажи” и его любовь “разгорелась с новой силой”.
Характерны телесные перемены, стремительно происходящие с подростком в размышлении о своём неведомом удачливом сопернике: “сердце во мне злобно приподнялось и окаменело” (с. 59). Орган чувствительности наконец приходит в то состояние, в котором только и может он быть у настоящего либертина (в противоположность сердцу Зинаиды, которое уже не может не любить). Эго начинает сращиваться с зоной безымянного чувства, формирование состояния апатии идёт полным ходом, производя необходимые изменения телесно-психологической структуры. [32]
Важнейшей сценой, закрепляющей это состояние апатии, является, разумеется, ночная встреча с отцом. Всё вопиющим образом стилизовано под сцену из дешёвого романтического или готического романа: руина в виде развалин оранжереи, ночь, кинжал в виде английского ножа, человек в плаще и надвинутой на глаза широкополой шляпе — и вдруг как удар для подростка, разом разрушающий всё его романтическое поле зрение: его счастливым соперником является его обожаемый отец. Прямо посреди романтического топоса мы вдруг проваливаемся в топос либертинский.
Высвобождение из-под власти Зинаиды идёт полным ходом: она уже признаётся, что виновата перед подростком, и делает признание, немыслимое во времена её либертинского состояния: “сколько во мне дурного, тёмного, грешного” (с. 63). Так может говорить только жертва. И тут же она добавляет: “я вас люблю — вы и не подозреваете, почему и как” (с. 63). Она любит его — в логике переноса с отца — любовью жертвы к либертину. Но вместить открывшуюся истину в сознание, довести единство “безымянного чувства” и эго до состояния самосознания себя в новом качестве, качестве либертина, подросток ещё не в состоянии.
В следующей сцене, логически связанной с предыдущей, — когда слуга подтверждает существование любовной связи отца и Зинаиды, — так описывается состояние подростка: “то, что я узнал, было мне не под силу: это внезапное откровение раздавило меня… Всё было кончено. Все цветы мои [33]были вырваны разом и лежали вокруг меня, разбросанные и истоптанные” (с. 65). Расставание с романтическом топосом завершилось. При этом рассказчик специально считает нужным подчеркнуть, что отец только вырос в его глазах после происшедшего (с. 67) — это уже либертинский взгляд на вещи.
Но требуется ещё один шаг, чтобы завершить полное высвобождение из-под чар Зинаиды и закончить либертинское образование. Этот шаг отец предпринимает в сцене совместной конной прогулки и последующей демонстрации сыну либертинского способа обращения с жертвой. Это очень интересно, что сцене с ударом Зинаиды хлыстом предшествует вторая сцена скачек, в которой теперь уже подросток принимает участие. Интересно, что оппозиция лошадь/конь опять возобновляется: отец едет на “славной английской лошади, неутомимой и злой” (с.68), тогда как у сына — “вороненький косматый конёк, крепкий на ноги и довольно резвый” (с. 69). Оставляя эту оппозицию без комментариев, констатирую только, что сын принят в общество “укротителей самых диких лошадей”. Более того, и здесь следует символический урок либертинского воспитания: сын боится прыгать через препятствия, но, поскольку отец презирает робких людей, преодолевает свой страх. Это искусство прыгать через препятствия подготовляет нас отчасти к внезапному повороту в следующей сцене — к неожиданному возобновлению дуэли отца с казалось бы уже совершенно побеждённой им Зинаидой.
Отец оставляет сына с лошадьми и без объяснений куда-то отлучается. Ясно, что любопытный недоумевающий подросток пойдёт по его следам. Иными словами, сцена, вероятней всего, продумана отцом. И вот уже подросток констатирует, что удерживает его в подглядывании за свиданием отца и Зинаиды “странное чувство, чувство сильнее любопытства, сильнее даже ревности, сильнее страха” (с. 70). Это — то же самое чувство, которое когда-то было безымянным, и связывалось с именем Зинаиды, и которое теперь уже сформировалось вполне — чувство апатии. Удар хлыстом по руке Зинаиды ставит точку в воспитании молодого либертина. Он констатирует, что “моя любовь, со всеми своими волнениями и страданиями, показалась мне самому чем-то таким маленьким, и детским, и мизерным перед тем другим, неизвестным чем-то, о котором я едва мог догадываться и которое меня пугало, как незнакомое, красивое, но грозное лицо, которое напрасно силишься разглядеть в полумраке…” (с. 72). Основание жизни на обращении Другого в ничто завершено. Другой предстаёт лицом к лицу — но лицо, которое скрывается в “полумраке”. Полумрак и есть зона, в которой существует либертин, — уже не на свету, бросаемом сознанием на подвластное сущее, но ещё и не в темноте пассивной субъективности, отданной во власть Другого. На этой трансгрессивной линии лицо другого одновременно и предстаёт, и сокрыто.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: