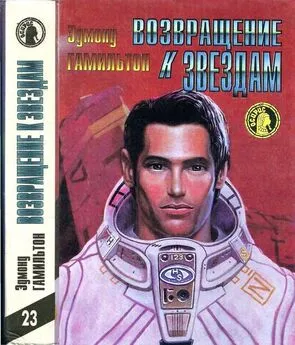Сергей Переслегин - Возвращение к звездам: фантастика и эвология
- Название:Возвращение к звездам: фантастика и эвология
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Переслегин - Возвращение к звездам: фантастика и эвология краткое содержание
мыслей.
Возвращение к звездам: фантастика и эвология - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Думаю, что машинально ни один офицер русского флота приказать изготовить и поднять белый флаг не может, До позора, чтобы такие приказания стали для офицера обычными, мы еще, слава богу, не дожили».
Только в этот момент я осознал, что произошедшее утром 15 мая в Японском море событие, в сущности, очень необычно. Прежде всего я пересмотрел список сдавшихся и сражавшихся кораблей.
Вот три броненосца береговой обороны, невесть как оказавшиеся за тридевять земель от своего естественного театра военных действий. Однотипные корабли, одинаковые биографии, похожие командиры (надо сказать, что крупные боевые корабли создают собственные эгрегоры, при этом у однотипных судов и эгрегоры, как правило, похожи). «Адмирал Ушаков» сражается до последнего снаряда, «Адмирал Сенявин» и «Апраксин» сдаются в плен. «Ушаков» шел один, «Сенявин» — в составе эскадры, сохраняющей преемственность командования. Из девяти миноносцев сдался только один — тот, на котором был адмирал и чины его штаба. Сдался в обстановке, весьма далекой от «окружения превосходящими силами противника». Короче, чем дальше — тем больше создавалось впечатление театральности, сюжетности происходящего. В самом деле, если бы я писал фантастический роман о некоей Русско-японской войне (случившейся, очевидно, в параллельной Реальности), об адмиралах Рожественском и Того, о Цусиме, какая ударная концовка мне понадобилась бы? Да именно эта самая: церемония спуска флага на «Николае» и разговор двух адмиралов в госпитале Сасебо.
Что характерно: цусимскую капитуляцию рассматривают по-разному: как позор, как преступление, как единственную возможность спасти людей — но все без исключения считают ее естественным и логичным концом нойны.
Я вновь обратился к материалам следствия, предположим на этот раз, что все или почти все подсудимые говорили правду. Могли ли их показания быть совместны и если да, то при каких условиях? Анализ позволил выделить следующие принципиальные моменты:
Показания свидетелей (матросов, судовых священников, врачей, корабельного инженера) единодушны в том, что до самого момента капитуляции такая возможность не приходила никому в голову. Дело здесь не в героизме моряков и в верности присяге. Просто люди были слишком измотаны, чтобы мыслить категориями, выходящими за рамки обыденного опыта, а, как правильно заметил прокурор, сдача в плен пока еще не стала для русских моряков привычным и естественным явлением. После этого момента, напротив, никому не приходило в голову, что могли быть и другие варианты. То есть можно говорить о психологическом переключении.
В показаниях непосредственных виновников сдачи обращает на себя внимание навязчивое повторение семиотических конструкций «машинально», «как в тумане», «я не осознавал, что делаю», «я находился как будто во сне», указывающее на бессознательный характер поступков.
Отмечается амбивалентность поведения многих участников сдачи, отдававших с минимальным промежутком времени самые противоречивые приказания. («Открыть огонь!», «Ни в коем случае не стрелять!», «Поднять белый флаг!», «Приготовиться к бою!», «Выбрасывать за борт затворы!», «Не сметь портить орудия!»…)
Некоторые моменты сдачи практически полностью вытеснены из памяти обвиняемых и свидетелей. Так, только на броненосце «Орел» (который находился в бедственном положении и согласно Морскому уставу имел право сдаться в плен) помнили процедуру подъема японского флага.
Наиболее необъяснима ситуация на «Изумруде», который уже отрепетовав сигнал о сдаче, неожиданно для всех дал полный ход и ушел из кольца японских кораблей. Вместо душевного подъема, который по идее должен был вызвать такой поступок, офицеры и команда корабля пришли в состоянии острой депрессии, которая на следующий день вылилась в форменный психоз (в результате чего крейсер был сначала посажен на мель в русских водах, а потом взорван «во избежание захвата японцами», коих в радиусе сотни миль не было и не могло быть).
Напротив, психическое состояние команд сдавшихся судов оставалось почти нормальным. Во всяком случае, среди офицеров не было самоубийств или серьезных психических расстройств.
Такая парадоксальная психическая реакция требует объяснений.
Все эти факты хорошо объясняются гипотезой о динамических эгрегорах, которые я назвал модификаторами поведения. В самом деле, нам известно, сколь мощное воздействие на психику могут оказать обычные статические объекты. На стадионе, в Храме Господнем, на первомайской демонстрации естественно вести себя в соответствии с «пожеланиями» местного эгрегора. В этом случае ты будешь вознагражден состоянием, близким к эйфории. Если же ты решил противопоставить себя воле этого эгрегора, то последствия в виде головной боли, дурного настроения, депрессии не заставят себя ждать. Можно сказать, что в подобных «полях» модифицируется восприятие человека.
«Но ты же знал, что дракона убил не бургомистр?» —
«Дома знал, а на параде…» [129]
Предположим теперь, что некоторые эгрегоры существуют не в пространстве, а во времени, представляя собой сюжеты. В отличие от обычных информационных объектов, для жизнедеятельности которых требуется лишь сам факт наличия людей-носителей и информационного поля, их связывающего, для объектов динамических непременным условием существования служат определенные поступки людей. И такие объекты оказывают на людей психологическое воздействие, модифицируя их поведение и заставляя подчиняться логике сюжета, даже если внушенные действия абсолютна не соответствуют их натуре [130]. В рамках этой модели очевиден список сдавшихся кораблей: воздействие оказывалось лишь там, где капитуляция была важна сюжетно. Объяснима амбивалентность поведения — императивы личности боролись с императивами модификатора. Понятна ситуация с «Изумрудом» — наказание за ослушание.
Бессознательный характер поведения и эффект вытеснения указывает на то, что механизмы воздействия модификатора на личность находятся глубже уровня сознания.
Модель модификаторов объяснила довольно многие загадки человеческой истории и вызвала интересную дискуссию (в которой, в частности, было дано определение нирваны как состояния, позволяющего человеку выйти из кругооборота сюжетов и, следовательно, не подвергаться воздействию со стороны каких-либо динамических модификаторов), но она отнюдь не прояснила ситуацию с современной Америкой. Во всяком случае, гипотеза, укладывающая отмеченные нами особенности США в некий сюжет, не подтвердилась. Более того, оказалось, что как раз американская история по сравнению с европейской или японской подчеркнуто бессюжетна или слабо сюжетна.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
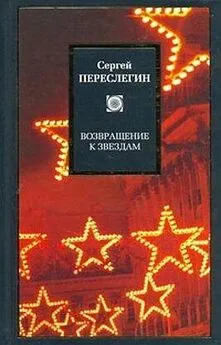

![Эдмонд Гамильтон - Возвращение к звездам [Возвращение на звезды, Угроза из космоса]](/books/115839/edmond-gamilton-vozvrachenie-k-zvezdam-vozvracheni.webp)