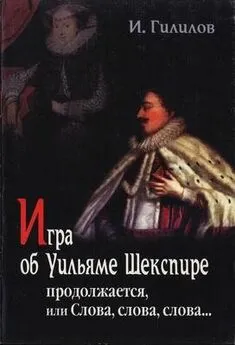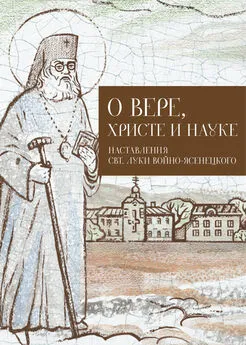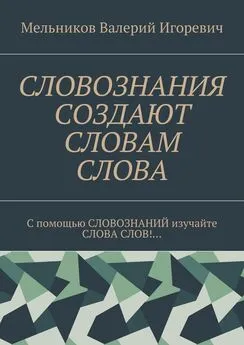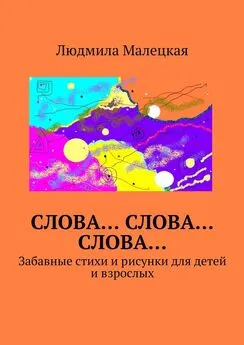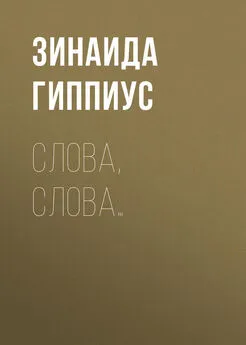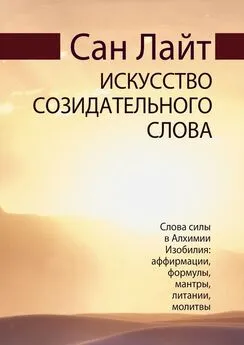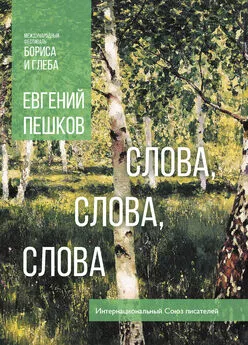Илья Гилилов - Игра об Уильяме Шекспире продолжается, или Слова, слова, слова...
- Название:Игра об Уильяме Шекспире продолжается, или Слова, слова, слова...
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Международные отношения»
- Год:2007
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7133-1284-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Илья Гилилов - Игра об Уильяме Шекспире продолжается, или Слова, слова, слова... краткое содержание
Мировая дискуссия о знаменитом «шекспировском вопросе» наконец пришла и в Россию, обретя при этом некоторые специфические, вызванные многолетним запретом черты.
Издание второе, дополненное
Игра об Уильяме Шекспире продолжается, или Слова, слова, слова... - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Головоломные словесные игры этих «великих стругальщиков слов», изобилующие примерами самых немыслимых «противоправных» неологизмов как на английских, так и на латинских, греческих, французских корнях, требуют не только формально-лингвистического подхода, но и тщательного анализа всего конкретно-исторического и литературного контекста, иначе их смысл от нас ускользает. Надо терпеливо проверять все возможные варианты решения таких загадок, не торопясь остановиться на первом пришедшем в голову.
Наглядный пример — странное название лондонского экземпляра честеровского сборника: «Anuals». Слова такого ни в каком языке, похоже, нет, и его появление здесь можно объяснять по-разному. Наиболее простым кажется рассматривать его как результат неумышленной опечатки в слове Annals — «Анналы». Это первая версия, первая гипотеза. Однако вероятность того, что такую опечатку в главном, напечатанном крупным шрифтом на титульном листе слове никто в типографии не заметил, крайне мала, да и о других странностях этого титульного листа и всего экземпляра не следует забывать.
Вторая версия, вторая гипотеза: странное слово — раблезианское обыгрывание латинского апи (anus). Этот (и не только этот) рецензент с возмущением с порога отвергает вторую версию (а это именно версия, одна из возможных, а не окончательное решение), так как она непристойна и «противоречит истории и духу языка»! Но вторая версия — не голословная догадка. Мы не знаем, кто именно заказал для себя этот единственный в мире, уникальный по всем своим реалиям титульный лист, но похоже, это был влиятельный недруг Рэтленда и странное слово намекает на предполагавшийся (возможно, из-за необычных отношений с женой) гомосексуализм покойного графа. В этом случае ничего невероятного во второй версии не оказывается, тем более что есть и прецеденты: например, вышедший из того же круга Честера — Солсбэри томик стихов Р. Парри, озаглавленный «Sinetes» — неологизм, похожий на «сонеты», но произведённый, скорей всего, от «sins» — «грехи, грешки». Исследователь не должен с порога отбрасывать какое-то объяснение фактов лишь потому, что оно «дурно пахнет». Только время и дополнительные исследования покажут, какая версия ближе к истине (может быть, это будет совершенно новая гипотеза, основанная на фактах, сегодня неизвестных). Но нашему рецензенту трудно отказаться от привычки с ходу выносить «окончательные» вердикты по непростым проблемам...
Можно было бы привести немало примеров безоглядной игры со словами (в тех же «Кориэтовых Нелепостях» и «Кориэтовой Капусте» или в сочинениях неутомимого «Водного Поэта» — Джона Тэйлора), показывающих, что, когда эти «британские умы» входили в раж, их меньше всего волновала необходимость соблюдать приличия или оглядываться на «патриотические чувства читателей», о которых через четыре столетия забеспокоился наш рецензент. Что же касается соответствия «истории и духу языка», то давайте попробуем отыскать их в заголовке панегирика, написанного для «Кориэтовых Нелепостей» Хью Холландом, — «К идиотам-читателям», где первая буква слова «идиотам» помещена строкой выше остальных и взята в кавычки. Возможно, Г. определит, какими именно «правилами» руководствовался здесь этот елизаветинец, но любой читатель или рецензент и тогда, и сегодня может прочитать это и как «Я — идиот» и отнести к себе. Вопреки «правилам грамматики и истории языка»!
Беспредметна и критика рецензентом перевода латинского слова «misteria» в надписи («Asinus portans misteria»), намалёванной Кориэтом на сундуке, в котором он развозил свои «Нелепости». Независимо от истории этого латинского выражения, в данном случае слово «misteria» следует перевести как «тайна», ибо и Бен Джонсон прямо говорит о раскрытии тайны «Нелепостей» («to unlock the Mystery of the Crudities»). He следует давать безапелляционные указания по переводу, не зная контекста.
Слово «тайна» рецензент Г. вообще и принципиально не любит. Тем более если речь идёт о тайне Шекспира! По мнению Г., излагая и анализируя факты о тайне, которой окружали свою деятельность, своё творчество «поэты Бельвуарской долины», автор «Игры об Уильяме Шекспире» являлся «пленником чисто советского представления о существовании всесильных заговорщиков, определяющих ход исторических событий». Не будем вступать с рецензентом в дискуссию относительно марксистских постулатов о роли личности в истории, но как не поздравить его со столь заметным вкладом в историю «шекспировского вопроса»: ведь теперь на роль «пленников советского представления» могут претендовать такие личности, как Чарлз Диккенс, Марк Твен, Зигмунд Фрейд, Владимир Набоков, Анна Ахматова и многие, многие другие, в том числе и главным образом англичане, американцы, немцы, французы, никогда на советскую землю не ступавшие. А тем временем дотошный Г. развивает свои историко-идеологические изыскания: «Вероятно, с этими пережитками советского сознания связаны и некоторые терминологические особенности стиля И. Гилилова». Признаюсь, автору «Игры об Уильяме Шекспире», в чьих работах нет не только ни одной цитаты, но даже ни одного упоминания имени кого-либо из «классиков» или «практиков» марксизма-ленинизма, было забавно услышать о себе такое. И действительно, как тут не улыбнуться… Ещё недавно почтенный советский библиограф Г. с гордостью демонстрировал составленный им каталог хранящихся в университетской библиотеке прижизненных изданий опусов вождя мирового пролетариата. Но вот судьба перемещает его в комфортабельное дальнее заокеанское зарубежье, и мы видим его выискивающим криминальные следы «советскости» в исследованиях «шекспировского вопроса». Такие вот околошекспировские метаморфозы...
Но посмотрим, что же это за «терминологические особенности, связанные с пережитками советского сознания», обнаружил Г. в «Игре об Уильяме Шекспире»? Оказывается, я применил такие выражения, как «докопался», «надуманный», «литературный эксперт определённого толка»! Г. пишет, что читать подобные (очевидно, напоминающие ему о нехорошем советском прошлом) выражения ему «стыдно». В связи с чем же я употребил эти постыдные, заставившие покраснеть рецензента выражения? Во-первых, страшное слово «докопался» я применил к известному исследователю архивов Лесли Хотсону, о котором отзываюсь очень тепло. Странно, но Г. не понимает: если об исследователе, много работающем в архивах, говорят, что он до чего-то «докопался», то это слово вполне для такого случая подходящее и отнюдь не обидное (скорее лестное). Не вижу криминала и в употреблении слова «надуманный» по отношению к не подкреплённому фактами доводу. Ну а кого же я оскорбил, назвав «литературным экспертом определённого толка»? Да не кого иного, как печально знаменитого Джона Пейна Кольера, «прославившегося» на весь мир своими фальсификациями печатных и рукописных материалов шекспировской эпохи, о чём я и рассказываю во второй главе «Игры об Уильяме Шекспире». И то, как я назвал Кольера, — едва ли не самая мягкая характеристика, когда-либо этим фальсификатором полученная. Похоже, Г. не только не знает, кто таков был Кольер, но даже и посвящённую его подвигам страницу в моей книге внимательно не прочитал. Особой «советскости» в моей терминологии наш сверхбдительный рецензент, как видим, доказать не смог, а вот собственную некомпетентность продемонстрировал ещё раз.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: