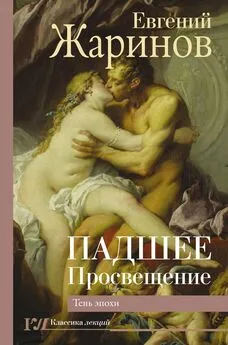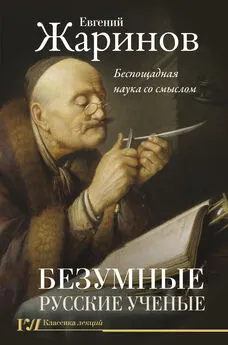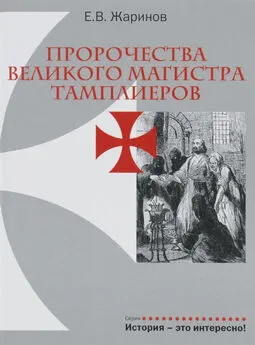Евгений Жаринов - Сериал как искусство. Лекции-путеводитель
- Название:Сериал как искусство. Лекции-путеводитель
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «АСТ»
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-093204-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Жаринов - Сериал как искусство. Лекции-путеводитель краткое содержание
«Высокое» и «низкое» в искусстве всегда соседствуют друг с другом. Так и современный сериал – ему предшествует великое авторское кино, несущее в себе традиции классической живописи, литературы, театра и музыки. «Твин Пикс» и «Игра престолов», «Во все тяжкие» и «Карточный домик», «Клан Сопрано» и «Лиллехаммер» – по мнению профессора Евгения Жаринова, эти и многие другие работы действительно стоят того, что потратить на них свой досуг. Об истоках современного сериала и многом другом читайте в книге, написанной легендарным преподавателем на основе собственного курса лекций!
Евгений Викторович Жаринов – доктор филологических наук, профессор кафедры литературы Московского государственного лингвистического университета, профессор Гуманитарного института телевидения и радиовещания им. М.А. Литовчина, ведущий передачи «Лабиринты» на радиостанции «Орфей», лауреат двух премий «Золотой микрофон».
Сериал как искусство. Лекции-путеводитель - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В числе «гонителей» на фильм Феллини была известная критикесса Полина Каэль, назвавшая фильм «структурной катастрофой». Зато она сделала точное наблюдение, что так же, как и в «Сладкой жизни», в фильме «8 1/2» Феллини потакает представлениям публики о развращенности богатых и одаренных людей. В «8 1/2» Феллини создает миф о жизни успешного гения.
Косвенное подтверждение словам Каэль можно найти в статье Михаила Ромма, посвященной монтажу аттракционов Эйзенштейна.
Разбирая фильмы Феллини, он находит «Сладкую жизнь» великолепным фильмом, значительно более лучшим, чем «8 1/2». Он считает, что «оба фильма практически лишены сюжета, в них с трудом можно проследить костяк, на который нанизывается шашлык аттракционов».
При этом в «Сладкой жизни» Ромм обнаруживает «острую критику современного буржуазного общества». Этот фильм кажется ему не просто «острым», но и, очевидно, достоверным, убедительным фильмом.
Ромм пишет, что после второго просмотра ему стал понятен механизм картины «8 1/2», и многое ему не очень понравилось. Однако он не пишет, что не понравилось конкретно. Надо полагать, что картина, как минимум, показалась ему надуманной и недостоверной.
Но подобная точка зрения представляется нам не совсем состоятельной. Прежде всего потому, что когда мы говорим о кинематографе Феллини, о его неповторимом стиле, то сразу же вспоминаем и его «Сладкую жизнь», и «8 1/2». Его ранние же фильмы, очаровательные и трогательные, бесспорно несут на себе этот исключительно феллиневский шарм, но он как-то задавлен тяжелыми принципами итальянского неореализма и реализма вообще. Дело в том, что художник Феллини по своей природе далек от всяческого реализма и так называемой правды жизни. Как-то в одном из своих интервью он признавался, что если бы ему пришлось снимать фильм про рыбу, то он всё равно снимал бы фильм про самого себя и никак иначе. Феллини – это ярко выраженный интроверт в искусстве, для которого проблемы его собственного внутреннего «я» куда важнее проблем окружающего мира.
«8 1/2» – это лучший фильм, когда-либо сделанный о кино, о том, как это кино снимается. Ю.М. Лотман в своей «Семиотике кино» уже отмечал это стремление Феллини к мета-фильму в картине «Восемь с половиной».
«Мета-» (с греч. μετά– между, после, через), часть сложных слов, обозначающая абстрагированность, обобщённость. У Лотмана мета-фильм означает лишь одно: фильм в фильме, или то, как съемки самого фильма раскрывают и комментируют сложнейший процесс создания картины.
Все в этой картине увидено глазами самого создателя этого действа, глазами режиссера, то есть главного героя Гвидо (Марчелло Мастроянни), alter ego самого Феллини.
Фильм начинается с кошмара удушья.
Эта сцена станет в последствии культовой в истории кино. Фильм начинается с кошмарного сна Гвидо. Первый кадр подобен первому слову в романе, написанном по всем законам потока сознания. Это как в самом начале романа Марселя Пруста «По направлению к Свану»: «Давно уже я привык укладываться рано. Иной раз, едва лишь гасла свеча, глаза мои закрывались так быстро, что я не успевал сказать себе: «Я засыпаю».
Камера медленно следует к задней части машины, внутри которой и оказался Гвидо. Он оказался посреди глухой пробки. Гвидо оборачивается, чтобы осмотреться и разглядеть своих соседей по несчастью: автомобили, автомобили, целое море, океан автомобилей, и за стеклом каждого различные лица с безучастным выражением манекенов. Все отстраненно смотрят на Гвидо. Какой-то старик в шикарном лимузине оглаживает молодую красивую соседку, кто-то высунулся наружу и смотрит прямо на Гвидо, но явно не видит его. Здесь сразу же у внимательного зрителя возникает ощущение, что он нечто подобное уже видел. Правильно. Это сцена кошмара в самом начале «Земляничной поляны» Бергмана. Гвидо начинает судорожно прочищать лобовое стекло: в автомобиль начал клубами валить удушливый дым. Машина превращается в газовую камеру и из нее надо срочно вылезти. Ногами Гвидо начинает бить в стекло. Люди в других автомобилях без всякого участия продолжают следить за происходящим. Это приступ клаустрофобии. Он передан нам очень осязаемо благодаря художественной выразительности кадра. Вспоминается рассказ Эдгара По о человеке, который боялся, что его могут по ошибке похоронить заживо. Гвидо колотит в окна. Пассажиры через стекла других автомобилей по-прежнему пассивно наблюдают за этой отчаянной борьбой за жизнь, за один свежий глоток воздуха. Наконец, он вылезает через люк на крыше и начинает медленно скользить над авто, а затем поднимается в воздух и вылетает из тоннеля, взмывая высоко в небо. В ушах свистит ветер, этот звук очень громкий. Этот звук рождает ассоциации, связанные с ощущением невероятной свободы, полета и творчества. Звук громкий, он буквально режет барабанные перепонки. Вспомним начало фильма Тарковского «Андрей Рублев»: «Лечу! Лечу!» – кричит герой фильма и задает тем самым на ассоциативном уровне главный музыкальный лейтмотив всей картины. Эта сцена у русского режиссера явно навеяна художественным открытием великого итальянца, а тот поглядел нечто подобное у великого шведа Ингмара Бергмана. Вот так они и обогащали друг друга, так и утверждали в своем творчестве прекрасные эстетические завоевания своих предшественников. А разве не сознание умирающего человека, не последние импульсы его мозга передает Орсон Уэллс в первых кадрах «Гражданина Кейна»?
Но вернемся к Феллини. Снизу, на берегу морской стихии, появляется какой-то всадник и Адвокат с ковбойским лассо. Что это за лассо? Может быть, артефакт, навеянный коммерческими американскими вестернами. Получается следующая метафора: адвокат с печатью дьявола на лбу набрасывается лассо на ногу Гвидо, зависшего где-то в небе, мол, вот, что надо снимать, придурок, а не парить где-то в облаках. Адвокат тянет веревку на себя, тянет Гвидо к земле, и тот летит вниз, но там его ждет бездонный океан, океан его собственного бессознательного. Гвидо ждет не рожденный еще им фильм, фильм, о котором он еще ничего не знает, но который мелькнул в его прекрасном кошмаре в виде океана, влекущего его к себе, в Глубину собственного я. Так рождается в картине предчувствие художником появления собственного Творения. Этот океан бессознательного, его глубины и предстанут в дальнейшем перед нами. Фильм будет, и фильма нет. Художник не творит, не снимает, он живет в постоянном процессе творчества, а то, что получается в результате, художнику не совсем и интересно, процесс-то не остановить, как не выпить этот океан, не исчерпать его.
Итак, нас сразу поражает запоминающийся кадр, в котором Гвидо плывет куда-то в небо, но его оттуда изо всех сил пытаются вновь вернуть на землю. Внизу на морском берегу стоят те, кто очень заинтересован в его фильме с материальной точки зрения. Это те, кто настойчиво убеждает его взяться за работу.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
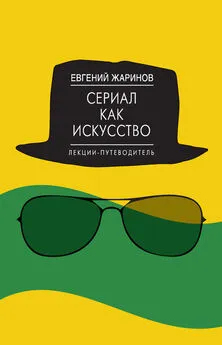

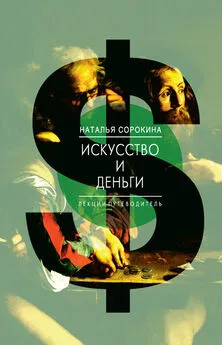
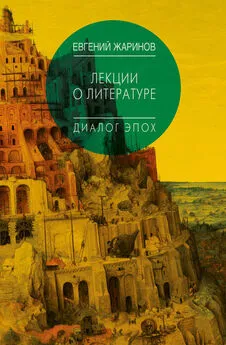
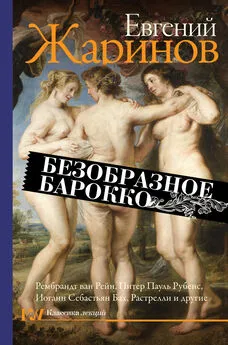
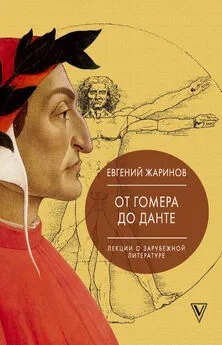
![Евгений Жаринов - История всех времен и народов через литературу [litres]](/books/1147543/evgenij-zharinov-istoriya-vseh-vremen-i-narodov-chere.webp)