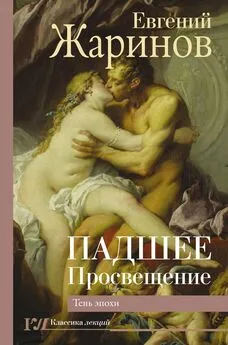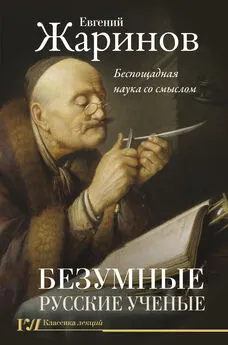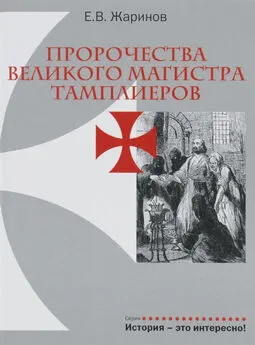Евгений Жаринов - Сериал как искусство. Лекции-путеводитель
- Название:Сериал как искусство. Лекции-путеводитель
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «АСТ»
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-093204-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Жаринов - Сериал как искусство. Лекции-путеводитель краткое содержание
«Высокое» и «низкое» в искусстве всегда соседствуют друг с другом. Так и современный сериал – ему предшествует великое авторское кино, несущее в себе традиции классической живописи, литературы, театра и музыки. «Твин Пикс» и «Игра престолов», «Во все тяжкие» и «Карточный домик», «Клан Сопрано» и «Лиллехаммер» – по мнению профессора Евгения Жаринова, эти и многие другие работы действительно стоят того, что потратить на них свой досуг. Об истоках современного сериала и многом другом читайте в книге, написанной легендарным преподавателем на основе собственного курса лекций!
Евгений Викторович Жаринов – доктор филологических наук, профессор кафедры литературы Московского государственного лингвистического университета, профессор Гуманитарного института телевидения и радиовещания им. М.А. Литовчина, ведущий передачи «Лабиринты» на радиостанции «Орфей», лауреат двух премий «Золотой микрофон».
Сериал как искусство. Лекции-путеводитель - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Пожалуй, самую лаконичную характеристику своему произведению дал Феллини: «Что представляет собой фильм «8 1/2»? Это нечто среднее между бессвязным психоаналитическим сеансом и беспорядочным судом над собственной совестью, происходящим в атмосфере преддверия ада. Это меланхолический, почти похоронный, но вместе с тем решительно комический фильм».
Мнение широкой публики было однозначным: «8 1/2» – произведение элитарное.
«ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯНА»
Производство: Швеция, 1957 г.
Автор сценария и режиссёр: И. Бергман.
Оператор: Г. Фишер. Художник Г. Густафссон.
Композитор: Э. Нордгрен.
В ролях: В. Шёстрём, Б. Андерссон, И. Тулин, Г. Бьёрнстранд, Ф. Сундквист, Г. Шёберг, Г. Фрид и другие.
Один из лучших фильмов Бергмана, один из шедевров мирового кино, одно из немногих произведений искусства ХХ века, оправдывающих и этот век в целом, и первый век кино, и само бытие человеческое. «Земляничная поляна», принесшая своему создателю мировую славу, обладает особой неброской красотой и непреходящим с течением времени обаянием.
1957 год был очень удачным для Ингмара Бергмана. В прокат вышли два его новых фильма: «Седьмая печать» и «Земляничная поляна» – принесшие Бергману всемирную славу и почетный статус живого классика мирового кино. О нем заговорили, как о чертовски талантливом режиссере со своим, ни на что не похожим взглядом на мир и весьма оригинальным творческим почерком. Спустя полвека критики сойдутся во мнении, что Бергману больше ни разу не удалось приблизиться к тому художественному уровню, которого он достиг в вышеназванных фильмах. Интересно, что сам режиссер считал своими лучшими работами более поздние «Персону» и «Фанни и Александр».
Но если «Седьмая печать» была мрачной, пессимистичной картиной, предрекающей гибель всего живого, то «Земляничная поляна» – наоборот, светлый, жизнеутверждающий фильм, пронизанный любовью и верой в человечество. Картина является своеобразной квинтэссенцией творчества режиссера, в которой нашлось место всему, что волновало Бергмана на протяжении его многолетней карьеры – тема одиночества, религиозные споры, вопросы жизни и смерти.
Сценарий «Земляничной поляны» Ингмар Бергман написал в Каролинской больнице, куда его поместили для общего обследования.
Фильм «Земляничная поляна» основан на впечатлениях режиссёра от поездки в Упсалу осенью 1956 года.
«В своё время я долго жил в Далекарлии, – рассказывал Бергман. – Я вырос там в небольшом селении у своей бабушки по материнской линии, зимой она почти всегда жила в Упсале в большой старомодной квартире.
Однажды ранним утром я отправился на машине в Далекарлию, где-то в четыре-пять утра, и заехал в Упсалу, очаровательный старинный город. Здесь я жил маленьким мальчиком, и мне навсегда запомнился этот мир.
Когда я приехал в Упсалу в то раннее утро, меня вдруг осенило – я поехал на Дворцовую, четырнадцать. Стояла осень, солнечные лучи начали слегка золотить купол собора, часы только что пробили пять. Я вошёл в мощённый булыжником маленький дворик. Потом поднялся по лестнице и взялся за ручку кухонной двери, на которой ещё сохранился цветной витраж; и тут меня вдруг пронзила мысль: а что если я открою дверь, а за ней стоит старая Лалла – наша старая кухарка, – повязавшись большим передником, и варит на завтрак кашу, как в ту пору, когда я был маленьким. Как будто я вдруг стал способен вернуться в своё детство. Теперь это чувство почти исчезло, но когда-то я сильно страдал такого рода ностальгией. Кажется, это Мария Вине сказала, что человек спит в башмачке своего детства, и это именно так.
И тогда мне пришло в голову: а что если сделать фильм, совершенно реалистический, в котором вдруг открываешь дверь и входишь в своё детство, потом открываешь другую дверь и выходишь из него в действительность, а после заворачиваешь за угол и входишь в какой-то другой период своего существования, и жизнь идёт своим чередом. Вот так и родилась идея «Земляничной поляны».
Написав сценарий, Бергман обратил внимание на случайное совпадение: у Исака Борга те же инициалы, что и у него самого. Это не было сделано намеренно. Имя Исак режиссёр выбрал потому, что он – ледяной. (Исак Борг можно перевести как «лёд» и «крепость»).
«Я смоделировал образ, внешне напоминавший отца, – писал режиссер, – но, в сущности, то был от начала и до конца я сам. Я, в возрасте тридцати семи лет, отрезанный от человеческих взаимоотношений, отрезающий человеческие взаимоотношения, самоутверждающийся, замкнувшийся неудачник, и притом неудачник по большому счёту. Хотя и добившийся успеха. И талантливый. И основательный. И дисциплинированный.
Я отчаянно враждовал с родителями, с отцом не желал и не мог говорить. С матерью мы то и дело заключали временное перемирие, но слишком много было там спрятанных в гардеробах трупов, слишком много воспалившихся недоразумений. Мне представляется, что именно в этом крылось одно из сильнейших побуждений, вызвавших к жизни «Земляничную поляну». Представив себя в образе собственного отца, я искал объяснения отчаянным схваткам с матерью».
По фильму, матери Исака Борга около ста лет – это уже какое-то мифологическое существо. Она говорит: «Мне ужасно холодно. Отчего бы это? Особенно в животе». «Мне представлялось, что некоторые дети выходят из холодного лона, – поясняет Бергман. – Не правда ли, страшно представить себе, как зародыш трясётся от холода. Это и навело меня на мысль создать образ матери. Она должна была бы давно умереть. Когда мать Исака показывает Марианне игрушки, та вдруг начинает понимать эту связь, цепь холодности, агрессивности и равнодушия».
Съёмки «Земляничной поляны» проходили с начала июля 1957 года и до конца августа. В фильме играли лучшие актёры шведского кино и театра – многие из них были постоянными сотрудниками Бергмана, его труппой. «Земляничную поляну» снимал лучший шведский оператор Гуннар Фишер.
На роль Исака Борга был приглашён актёр и режиссёр Виктор Шёстрём, не просто патриарх, а основоположник шведского кино. Роль Борга стала для него последней – он умер через два года в возрасте восьмидесяти лет.
Как художник, Шёстрём с самого начала затмевал всех. Он был превосходным рассказчиком, остроумным, увлекательным.
В «Земляничной поляне» (прокатное название: «Smultronstället»), снятой в 1957 году, чувствуется глубокая рефлексия режиссера на тему проблемы обретения смысла жизни.
Главный герой «Земляничной поляны», Исак Борг, преклонных лет доктор, заслуженный профессор, в течение всего фильма существует больше во времени, чем в пространстве.
На Бергмана, как и на сам персонаж, – старика-доктора в шведской глубинке, около города Лунд – несомненно повлияло учение об индивидуальности, идеи экзистенциализма, особенно, в версии Ясперса. Уже в первой сцене, в сцене кошмарного сна, Бергманом задается тема одиночества любой индивидуальности, как тема апокалипсическая. В современном мире человек теряет все свои традиционные связи с родными, близкими и, дальше, со всем окружающим миром. Он чувствует свое онтологическое одиночество. Так разрушается христианская, средневековая соборность, христианская концепция всеобщего братства в единой семье верующих.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
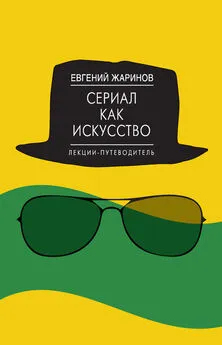

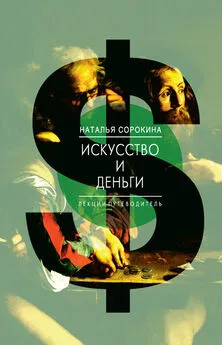
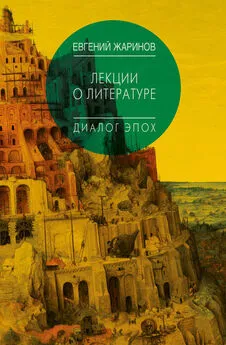
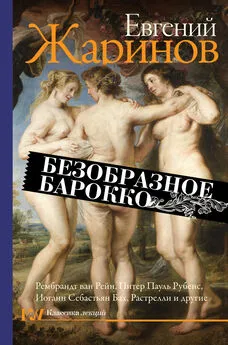
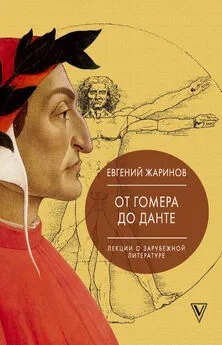
![Евгений Жаринов - История всех времен и народов через литературу [litres]](/books/1147543/evgenij-zharinov-istoriya-vseh-vremen-i-narodov-chere.webp)