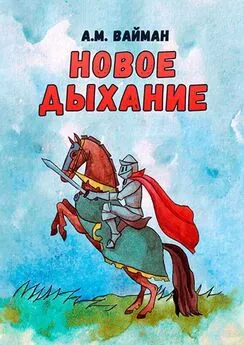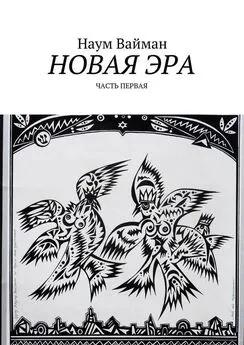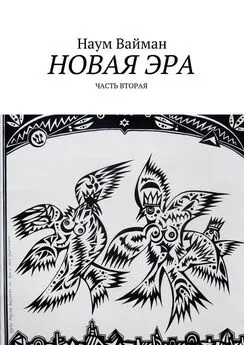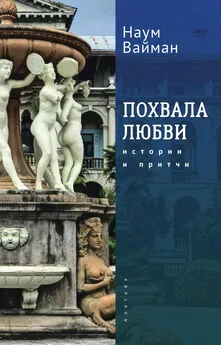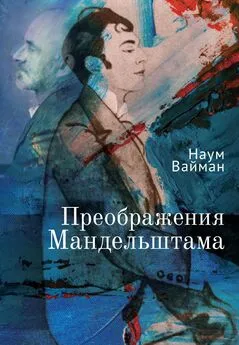Наум Вайман - Преображения Мандельштама [litres]
- Название:Преображения Мандельштама [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Алетейя
- Год:2020
- ISBN:978-5-00165-147-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наум Вайман - Преображения Мандельштама [litres] краткое содержание
В новой книге творчество и судьба поэта рассматриваются в контексте сравнения основ русской и еврейской культуры и на широком философском и историческом фоне острого столкновения между ними, кардинально повлиявшего и продолжающего влиять на судьбы обоих народов.
Книга составлена из статей, объединенных общей идеей и ставших главами. Они были опубликованы в разных журналах и в разное время, а посему встречаются повторения некоторых идей и цитат.
Преображения Мандельштама [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
По губам меня помажет пустота…
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья и чести своей…
Нет, не спрятаться мне от великой муры…
Ведь лежать мне в сосновом гробу…
– Нет, не мигрень, но холод пространства бесполого…
– Жил Александр Герцович,
Еврейский музыкант…
В контексте поэтики Мандельштама «бесполое» – не имеющее продолжения, мертвое, бессмысленное. Как же в этом холоде пространства бесполого не вспомнить для контраста еврейского музыканта…
А еще после возвращения – «Четвертая проза», крик гнева и отчаяния: «животный страх», «доносы», творчество – «ворованный воздух», советские писатели – «проститутки», которым «я хочу плевать в лицо, хочу бить их палкой по голове… Этим писателям я бы запретил иметь детей (снова важный мотив бесплодия)… ведь дети должны за нас продолжить, за нас главнейшее досказать – в то время как отцы их запроданы рябому черту на три поколения вперед». Тут как тут и «рябой черт», мучительные думы о Сталине…
И перед «Канцоной», за несколько дней до нее – «Сохрани мою речь навсегда»: отчаянная, униженная мольба к отцу народов‐языков сохранить речь – суть жизни поэта 224. Ради этого – готовность на все: возлюбить мерзлые плахи, стать палачом и стать жертвой.
«Канцона» – бегство от отчаяния, от присяги плоской культуре плах, фантазия об исходе из «буддийских» равнин, выходе в другое измерение, вознесении на вершины гор подобно спуску Данте в глубины времен 225. Это бегство из бесполого пространства в живую глубь времени‐истории, как возвращение к истоку. Вознесение, как смерть‐преображение, приобщение к истории предков. «И приложился к народу своему», говорят в еврейских поминальных молитвах. И в названии («Канцона») эхом звучит «конец»…
5. Вознесение
Итак, в зачине стихотворения – восторг перед будущей встречей с небожителями и «бьющейся» славой. Ведь речь идет о восшествии героя на вершины гор, в заоблачные выси, бегство от земной юдоли. Идея собственного «вознесения» была близка Мандельштаму. Он считал поэта (вполне в традиции русской культуры) пророком, ровней царям, явлением божественной природы. Даже сравнивал себя с Распятым. В оде Сталину, написанной позднее, он представляет себя Прометеем, помощником того, кто свесившись «с трибуны, как с горы», с высоты своей «сдвигает мира ось», и прямо говорит о собственном воскресении («Воскресну я сказать, что солнце светит»). Вознесение есть преображение, и с ним неразрывно связан мотив льющейся славы, как льющейся песни 226. Слава бьется и льется, и, конечно, речь не о земных регалиях и инсигниях, а о Славе Божьей, в круг сияния коей попадает вознесшийся. В ветхозаветных текстах, канонических и апокрифических, распространен сюжет вознесения пророка или святого к престолу Божьему, во многих священных текстах он назван «престолом Славы» 227, где избранный удостоен созерцать полыхающую огнем Славу Господню. В мистических иудейских текстах вознесение‐преображение есть облачение в сияние славы и обретение своей высшей идентичности 228. Сказано у Исайи:
В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком… Вокруг него серафимы… И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Святых Воинств! Вся земля полна славы его!» (Исайя 6:3)
Шестая глава Исайи послужила Пушкину основой его «Пророка». О похожем восшествии на небо, только более подробно, рассказывает в мистическом тексте о небесных дворцах (апокриф «Книга Еноха») рабби Ишмаэль:
По прошествии часа Святой, будь Он Благословен, отворил передо мной врата Шехины, врата мудрости, врата силы, врата могущества, врата речи, врата песни, врата освящающего восхваления, врата воспевания. Он просветил мой взор и мое сердце, дабы я воспел гимн… И когда я открыл свои уста, святые души под Троном Славы и над Троном Славы вторили мне, говоря: «Свят, Свят, Свят и Благословенна Слава Господня!…»
Формула тройного освящения сохраняется и в современных еврейских молитвах, наверняка известных Мандельштаму, раз он ходил отроком в синагогу.
Этот же мотив славы, как атрибута небожителей и причины их пребывания в небесных сферах, характерен и для античной мифологии, откуда он перекочевал в Средневековье и наше время. Элизиум, где обитали земные владыки, герои и поэты, был «пристанищем славы», трубадур 12 века называет его «сад славы», через славу смертные приобщались к бессмертным богам 229, одевшись «славой» – к небожителям (в мистических иудейских и христианских текстах).
Небожители, среди коих чает оказаться герой, названы «банкирами горного ландшафта», «храмовниками базальта» (в черновике), «держателями могучих акций гнейса» 230. То есть, они и хозяева земли. Не зря же горы – место встречи небесного и земного (греческие боги, как известно, были прописаны на Олимпе). В следующей строфе Мандельштам сравнивает их с орлами, что «выводит» в дальнейшем на Зевса, верховного бога античности: орел – атрибут Зевса, его помощник и оруженосец (носит его стрелы‐молнии), Зевс поручает ему ответственные задания, а то и сам превращается в орла, чтобы их выполнить. В этой компании небожителей легко вообразить и поэтов: Мандельштам не забывал стихов Блока о «Данте с профилем орлиным»… 231
Похожие «возвышенные» мотивы есть в «Поэме горы» Марины Цветаевой. Она написана в 1924 году в Праге и опубликована в 1926‐ом в парижских «Вёрстах», и ко времени написания «Канцоны» этот текст мог быть Мандельштаму знаком. Есть даже совпадение метафор: у Цветаевой «Та гора хотела губ…», у Мандельштама в стихах об Армении: «Гора плывет к губам…» Цветаева пишет: «Та гора была – миры!»; «Горы времени у горы»; «Та гора была, как гром!…» – здесь почти назван Зевс, громовержец и царь горы.
И у Мандельштама все эти силы небесные, банкиры горных ландшафтов и священные птицы, управляются некой высшей властью, она появляется в начале третьей строфы в образе Зевса: «То Зевес…». С помощью метафор, связанных с финансовой сферой: «банкиры», «держатели акций» (появляется еще и слово «ростовщический»), Мандельштам выстраивает образную систему сосредоточия силы, могущества, накопления ценностей, строит образ власти. Но это не только власть над породами земли, над «материей», но и власть духовная: над громадами памяти, над историей и культурой. Ведь и деньги, и акции – ценные бумаги, и ценность их в знаках. А геологические слои гнейса похожи на старые манускрипты, на страницы, спрессованные в Книгу Жизни…
Прелестные страницы, посвященные Новалисом горняцкому, штейгерскому делу, конкретизируют взаимосвязь камня и культуры, выращивая культуру как породу… 232
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Наум Вайман - Преображения Мандельштама [litres]](/books/1142516/naum-vajman-preobrazheniya-mandelshtama-litres.webp)