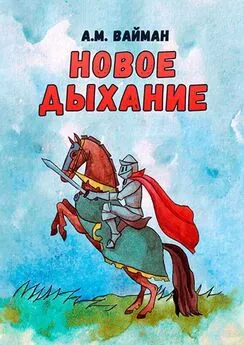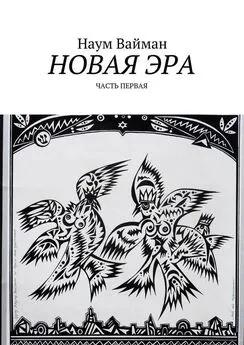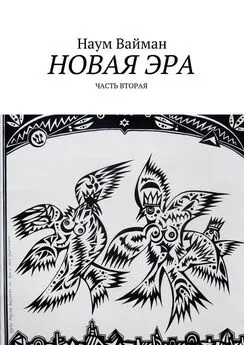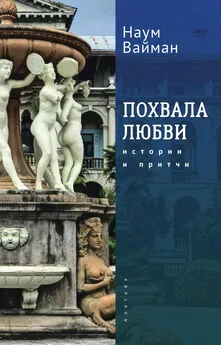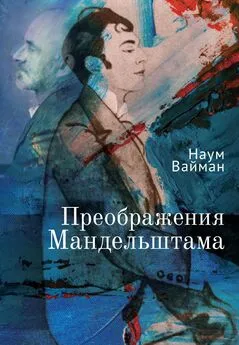Наум Вайман - Преображения Мандельштама [litres]
- Название:Преображения Мандельштама [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Алетейя
- Год:2020
- ISBN:978-5-00165-147-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наум Вайман - Преображения Мандельштама [litres] краткое содержание
В новой книге творчество и судьба поэта рассматриваются в контексте сравнения основ русской и еврейской культуры и на широком философском и историческом фоне острого столкновения между ними, кардинально повлиявшего и продолжающего влиять на судьбы обоих народов.
Книга составлена из статей, объединенных общей идеей и ставших главами. Они были опубликованы в разных журналах и в разное время, а посему встречаются повторения некоторых идей и цитат.
Преображения Мандельштама [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Однако Надежда Яковлевна почему‐то пытается обосновать это утверждение через трактовку малинового цвета той самой ласки «начальника евреев», связав этот цвет с картиной Рембрандта «Возвращение блудного сына», с ее, как она пишет, «красным, теплым колоритом». Он якобы «прочно вошел в сознание Мандельштама», и именно в этом контексте
Доброта всепрощающего отца и сила раскаяния блудного сына воплотились в его памяти в красное сияние, которое исходит от отца как благодать.
Благодать, исходящая красным сиянием? Вряд ли Мандельштам так воспринимал красный цвет, в общем‐то, тревожный, даже угрожающий. Да и сам он в этом стихотворении ясно определяет: «в красном – нетерпенье» (далеко от благодати). Кроме того, у Мандельштама речь идет все‐таки о «малиновой ласке», а не о «красной». А если говорить о «еврейском контексте» малинового цвета, то стоит упомянуть, прежде всего, фиолетовый цвет (один из оттенков малинового), на языке Библии «фиолетовый» одного корня с «избранностью» (сегол – сгула), и в Каббале фиолетовый цвет символизирует первоначало, основу основ (это цвет одной из десяти сефирот «древа жизни», называемой Есод, то есть Основа). В европейском оккультизме фиолетовый означает духовность, мудрость, величие, пурпурный же цвет, тоже один из оттенков малинового, – символ могущества и царской власти, а сам малиновый – символ царской власти и героизма. Все эти три цвета «родственны» (сочетание красного с синим) и все «говорят» о том же: избранность, власть, величие. И если говорить о фразе Мандельштама «что ни казнь у него, то малина, и широкая грудь осетина», то в ней очевидна связь с могуществом ласкающего, только смысл этой связи страшненький, макабрический, благодать тут не просматривается. И самый яркий «малиновый след» в текстах поэта – страшный сон о городе Малинове в «Египетской марке»:
Меня прикрепили к чужой семье и карете. Молодой еврей пересчитывал новенькие, с зимним хрустом, сотенные бумажки.
– Куда мы едем? – спросил я старуху в цыганской шали.
– В город Малинов, – ответила она с такой щемящей тоской, что сердце мое сжалось нехорошим предчувствием(подчеркнуто мной – Н.В .).
Старуха, роясь в полосатом узле, вынимала столовое серебро, полотно, бархатные туфли. Обшарпанные свадебные кареты ползли все дальше, вихляя, как контрабасы 269. Ехал дровяник Абраша Копелянский с грудной жабой и тетей Иоганной, раввины и фотографы. Старый учитель музыки держал на коленях немую клавиатуру. Запахнутый полами стариковской бобровой шубы, ерзал петух, предназначенный резнику.
– Поглядите, – воскликнул кто‐то, высовываясь в окно, – вот и Малинов. Но города не было. Зато прямо на снегу росла крупная бородавчатая малина.
Видение еврейских беженцев на подводах, бредущих в сказочный, спасительный город еврейского счастья… (Кстати, на Украине, западнее Киева, в сгинувшей стране еврейских местечек есть город Малин…) Мандельштам был знаком с жуткой историей насильственного выселения евреев из пограничных областей во время Первой мировой войны, сопровождавшегося грабежами и убийствами (евреев обвиняли в шпионаже в пользу немцев). Это была репетиция Холокоста. В Варшаве тогда скопились десятки тысяч еврейских беженцев, и в 1915‐ом году Мандельштам неожиданно стал рваться в Варшаву и попал туда, устроившись в санитарном поезде, но заболел и быстро вернулся. О причинах поездки ведутся споры, полагаю, что кто‐то из беженцев близко знал Мандельштама и сообщил ему о беде, умоляя о помощи 270. Георгий Иванов утверждает, что это была женщина, и я в данном случае склонен ему верить. Впрочем, это другая история…
То есть, малина у Мандельштама – цвет еврейского спасения‐счастья, но непременно с набором ощущений, неизменно сопровождающих еврейское счастье: горечи, щемящей тоски, нехороших предчувствий и страха 271. Сразу за этим «малиновым» сном следует известный отрывок о страхе: «Страх берет меня за руку и ведет». А «начальник евреев», кто бы он ни был (мы еще поговорим о нем), ведет своих «подчиненных» по истории не самым удобным путем, так что его «малиновая ласка» никакой особой благодати блудному сыну не предвещает. А то, что Мандельштам говорит Ему – верую («села»), приносит присягу, так это и есть выбор судьбы.
Однако вернусь к трактовке Надежды Яковлевны: пусть «доказательная часть» у нее и хромает, но в данном случае я готов поверить в наличие «внутренней информации»:
…обе темы – национальная и религиозная – слились. Возвращение к своему народу из мира, который забыл про светоч, означает и возвращение к Богу отцов…
Указав верное направление, Надежда Яковлевна тут же внесла в свою трактовку любимую идеологическую струю насчет христианства. То ли потому, что, будучи сама пламенно верующей православной (крещеной пассионарным евреем Александром Менем), видела во всех литературных ходах Мандельштама «христианский след», как Кацис видит еврейский, то ли считала, быть может, что такая «насильственная христианизация» поэта поспособствует его успеху (и ее собственному) в православной стране? Так или иначе, противореча, на мой взгляд, собственной трактовке стихотворения как «возвращения блудного сына» к своему народу и вере отцов, Надежда Яковлевна настойчиво украшает это устремление христианскими мотивами.
К возвращению в отчий дом его побуждает христианская притча. Первоначальная общность иудейско‐христианского мира для Мандельштама, искавшего «ключи и рубища апостольских церквей», гораздо ощутимее, чем последующее разделение. В христианско‐иудейском мире, скрестившемся с эллинской культурой, он видит Средиземноморье, к которому всегда стремился. К иудейству, к «начальнику евреев», он рвется не по зову крови, а как к истоку европейских мыслей и представлений, в которых черпала силу поэзия.
Прежде всего, не могу согласиться с тем, что «к возвращению в отчий дом его побуждает христианская притча» (о блудном сыне). Если Мандельштам и был по отношению к вере отцов «блудным сыном», то «блудил» он именно с христианством. И даже если смело предположить его некое смущение на сей счет, то уж никак не «раскаяние». На тему возвращения и воссоединения ему скорее был близок миф об Иосифе Прекрасном 272, проданном в Египет, но, в конце концов, все‐таки обнявшим своего отца.
Есть в рассуждениях Надежды Яковлевны и серьезная неувязка: с одной стороны Мандельштам стремится к Средиземноморью, как пересечению христианско‐иудейского мира с эллинской культурой, а с другой, «рвется к иудейству». Тут либо логика хромает, либо какая‐то путаница краеугольных понятий: христианство и есть пересечение иудейства с эллинской культурой. А если Надежда Яковлевна разделяет Христианство на «первоначальное» (еще очень «иудео»), близкое сердцу Мандельштама, и то, что возникло потом (на пересечении с эллинизмом), то это вопрос очень обширный и весьма спорный, тут, как говорит русская пословица, не руби с плеча, полетит башка сгоряча…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Наум Вайман - Преображения Мандельштама [litres]](/books/1142516/naum-vajman-preobrazheniya-mandelshtama-litres.webp)