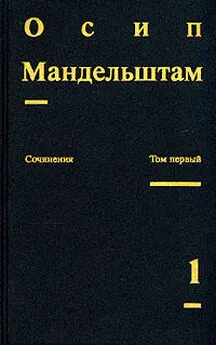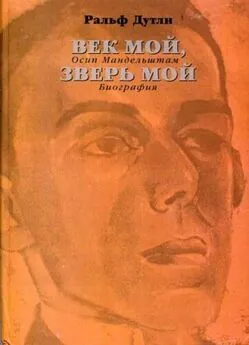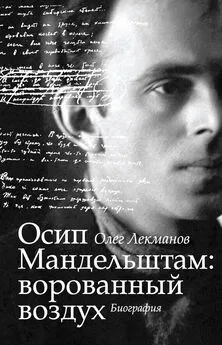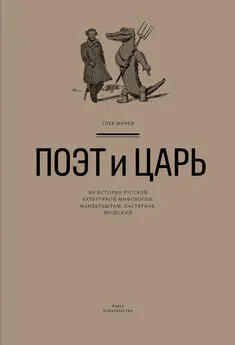Глеб Морев - Осип Мандельштам: Фрагменты литературной биографии (1920–1930-е годы)
- Название:Осип Мандельштам: Фрагменты литературной биографии (1920–1930-е годы)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Новое издательство
- Год:2022
- Город:Москва
- ISBN:978-5-98379-264-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Глеб Морев - Осип Мандельштам: Фрагменты литературной биографии (1920–1930-е годы) краткое содержание
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Осип Мандельштам: Фрагменты литературной биографии (1920–1930-е годы) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Текст Якобсона, поразивший современников [273], задавал принципиально новый ракурс восприятия Маяковского, в своих опорных точках оказавшийся чрезвычайно близким Мандельштаму (также переоценивавшему путь Маяковского после его смерти) и, по-видимому, повлиявший на его отношение к фигуре Маяковского в целом.
Смерть Маяковского – в «обрамляющей [его] кончину травле» – осмыслялась Якобсоном в ряду других символических смертей русских поэтов, определенных, как он настаивал, не частными, а социальными обстоятельствами:
Расстрел Гумилева (1886-1921), длительная духовная агония, невыносимые физические мучения, конец Блока (1880-1921), жестокие лишения и в нечеловеческих страданиях смерть Хлебникова (1885-1922), обдуманные самоубийства Есенина (1895-1925) и Маяковского (1894 < sic! > – 1930). Так в течение двадцатых годов века гибнут в возрасте от тридцати до сорока вдохновители поколения, и у каждого из них сознание обреченности, в своей длительности и четкости нестерпимое. Не только те, кто убит или убил себя, но и к ложу болезни прикованные Блок и Хлебников именно погибли [274].
Маяковский представал у Якобсона как поэт, который «воплотил в себе лирическую стихию поколения», причем в описании Якобсона это поколение не могло не ощущаться Мандельштамом как свое:
Примерно те, кому сейчас между 30 и 45-ю годами. Те, кто вошел в годы революции уже оформленным, уже не безликой глиной, но еще не окостенелым, еще способным переживать и преображаться, еще способным к пониманию окружающего не в его статике, а в становлении [275].
Ненависть к в широком смысле антиреволюционной, консервативной стихии быта, с которой, по Якобсону, всю жизнь воевал Маяковский, также роднила текст «Поколения» со статьями Мандельштама начала 1920-х годов, с «Шумом времени» и даже с «Четвертой прозой» («Когда певцы убиты, а песню волокут в музей, пришпиливают к вчерашнему дню» у Якобсона – ср. о Благом, который «сторожит в специальном музее веревку удавленника – Сережи Есенина»). Некоторые пассажи Якобсона актуализировали в новом – сближающем – контексте содержавшие совпадения с последними текстами самого Мандельштама стихи Маяковского («Не потому ли стих его начинен ненавистью к крепостям быта, и в словах таятся „буквы грядущих веков”?») [276].
Под пером Якобсона Маяковский, который, говоря словами Курса, не мог пережить все это, вырастал в символическую фигуру поэта-новатора, ставшего, несмотря на всю революционность, жертвой своего «глухого» времени, «обреченным „изгоем нынчести”» [277], чьи «захватывающие песни о будущем <���…> из динамики сегодняшнего дня превратились в историко-литературный факт» [278]. Мандельштам, не раз манифестировавший свою «современность», однако упорно выдавливаемый критической рецепцией из литературного сегодня в прошлое, не мог не видеть здесь неожиданной и оттого еще резче ощущаемой общности поэтических судеб [279].
14
30 сентября 1931 года симпатизировавший Мандельштаму главный редактор «Нового мира» В.П. Полонский записал в дневнике:
Заходил Мандельштам. Постарел, лысеет, седеет, небрит. Нищ, голоден, оборван. Взвинчен, как всегда, как-то неврастенически взвихривается в разговоре, вскакивает, точно ужаленный, яростно жестикулирует, трагически подвывает. Самомнение – необычайное, говорит о себе как о единственном или, во всяком случае, исключительном явлении. То, что его не печатают, он не понимает как несоответствие его поэзии требованиям времени. Объясняет тысячью различных причин: господством бездарности, халтуры, гонением на него и т.п. Требует, чтобы его печатали, требует денег, настойчиво, назойливо, намекая на возможность трагической развязки. В нем, конечно, чуется трагедия: человек с огромным поэтическим дарованием, с большой культурой – он чужд нашему времени и ничего не может ему дать. Он в своем мире – отчасти прошлого, рафинированных, эстетских переживаний, глубоко индивидуальных, узких, хотя и глубоких, – но ни с какой стороны не совпадающих с духом времени, с характером настроений, царящих в журналах. Поэтому он со своими классическими, но холодными стихами – чужак. И налет упадочности на них, конечно, велик. Что с ним делать? Грязен, оборван, готовый каждую минуту удариться в истерику, подозревающий всякого в желании его унизить, оскорбить, – у него нечто вроде мании, – тяжело с ним встречаться и разговаривать. Тем более что помочь ему трудно. Я дал ему аванс – рублей шестьсот – под прозу. Написал два листа – требует еще, так как не может продолжать [280].
Публикатор дневника Полонского С.В. Шумихин, исходя из указанного объема текста, справедливо предположил, что речь идет о «Путешествии в Армению» [281]. Несмотря на полученный от Полонского аванс, «Путешествие» осталось в прежнем объеме и было опубликовано не в «Новом мире», а в майской «Звезде» за 1933 год – очевидно, после снятия Полонского с поста главного редактора «Нового мира» в декабре 1931 года и его скоропостижной смерти в феврале 1932-го Мандельштам, продолжая печатать в «Новом мире» стихи (1932. № 4, 6), решает «продать» свою прозу дважды. Литературных заработков катастрофически не хватает, цензурные препятствия мешают выходу уже принятых редакциями вещей; в письме отцу в конце 1932 года Мандельштам называет это «изоляцией», которую (как точно отметил Полонский) считает «искусственной», создаваемой недоброжелателями в литературных кругах. Несмотря на прошедшие весной 1933 года в Ленинграде и Москве публичные вечера, к возможности организации которых он еще в декабре 1932 года относился скептически [282], два фактора – ужесточение политической обстановки и невероятная трудность реализации той модели литературного существования, которую он выбрал после возвращения из Армении и Грузии в конце 1930 года, – накладываясь друг на друга, как уже говорилось, меняют картину его мировосприятия. Осведомитель ОГПУ докладывал в июле 1933 года:
На днях возвратился из Крыма О. МАНДЕЛЬШТАМ. Настроение его резко окрасилось в антисоветские тона. Он взвинчен, резок в характеристиках и оценках, явно нетерпим к чужим взглядам. Резко отгородился от соседей, даже окна держит закрытыми со спущенными занавесками. Его очень угнетают картины голода, виденные в Крыму, а также собственные литературные неудачи: из его книги Гихл собирается изъять даже старые стихи, о его последних работах молчат. Старые его огорчения (побои [283], травля в связи с «плагиатом») не нашли сочувствия ни в литературных кругах, ни в высоких сферах. МАНДЕЛЬШТАМ собирается вновь писать тов. СТАЛИНУ. Яснее всего его настроение видно из фразы: «Если бы я получил заграничную поездку, я пошел бы на все, на любой голод, но остался бы там». Отдельные его высказывания по литературным вопросам были таковы: «Литературы у нас нет, имя литератора стало позорным, писатель стал чиновником, регистратором лжи. „Литературная > газета“ – это старая проститутка – права в одном: отрицает у нас литературу». В каждом номере вопль, что литература отстает, не перестроилась и проч. Писатели жаждут не успеха, а того, чтобы их Ворошилов вешал на стенку, как художников (теперь вообще понятие литературного> успеха – нонсенс, ибо нет общества) [284].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: