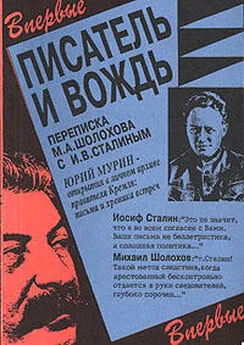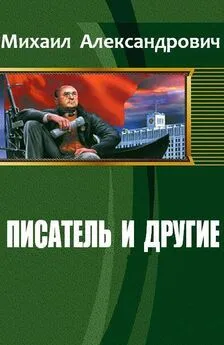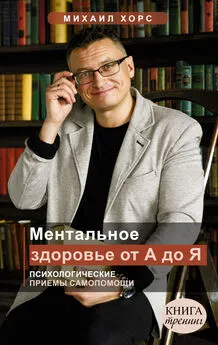Михаил Вайскопф - Писатель Сталин. Язык, приемы, сюжеты [3-е изд.]
- Название:Писатель Сталин. Язык, приемы, сюжеты [3-е изд.]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-44-481363-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Вайскопф - Писатель Сталин. Язык, приемы, сюжеты [3-е изд.] краткое содержание
Михаил Вайскопф — израильский славист, доктор философии Иерусалимского университета.
Писатель Сталин. Язык, приемы, сюжеты [3-е изд.] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В 1917 году у него внезапно выскакивает драматургический Чехов: «— В Москву, в Москву! — шепчутся „спасители страны“, удирая из Петербурга». «Собственно, именно Чехов являлся любимым автором Сталина, — утверждает Громов. — Его он будет читать всю жизнь» [36]. Трудно сказать, на чем основано это категорическое заявление, — разве что на свидетельстве Анны Аллилуевой, подтверждающей его симпатию преимущественно к раннему, юмористическому — то бишь «разоблачительному» — Чехову: «„Хамелеон“, „Унтер Пришибеев“ и другие рассказы Чехова он очень любил. Он читал, подчеркивая неповторимо смешные реплики действующих лиц „Хамелеона“». Кроме того, «очень любил и почти наизусть знал он чеховскую „Душечку“» [37]; в ссылке он пересказывал и «Лошадиную фамилию» [38]. В 1930 году в «Заключительном слове» на XVI съезде Сталин обратился к рассказу «Человек в футляре» — задолго до того, как на упомянутой встрече с кинематографистами и с Авдеенко одобрительно отозвался об общей «манере Чехова» [39].
До революции почитывал он и народнического Глеба Успенского [40]да еще некоторых модных авторов вроде Арцыбашева («низменного») и Пшибышевского, которого, как и Мережковского и прочих «декадентов», в своих оценках «не щадил». Есть и сведения о его интересе к Достоевскому, идущие, в частности, от С. Аллилуевой: «О Достоевском он сказал мне как-то, что это был „великий психолог“. К сожалению, я не спросила, что именно он имел в виду — глубокий социальный психологизм „Бесов“ или анализ поведения в „Преступлении и наказании“?» [41]Б. Илизаров проштудировал его графические выделения на полях «Братьев Карамазовых» и толстовского «Воскресения» [42], однако, на мой взгляд, они не свидетельствуют о какой-либо глубине интересов. Так, «Воскресение» Сталин весьма не одобрил (троекратное, в разных местах, «Ха-ха-ха»), а из его многочисленных отчеркиваний или подчеркиваний трудно сделать сколь-нибудь внятное заключение — они не выходят из обычного круга пассивно-читательских реакций. С другой стороны, его редкие и по большей части глумливые реплики: «Ха!», «Хе!», «Так его!» и пр. свидетельствуют прежде всего о непроходимой пошлости и даже о туповатости, оскорбительной для каждого, кто верит в совместимость злодейства с гением. Его развернутые суждения о Достоевском, приведенные Д. Шепиловым в изложении А. Жданова [43]— и тоже процитированные Илизаровым, — не поднимаются над советско-мещанским уровнем (непревзойденный психолог и мастер языка — но ярый реакционер, дурно влияющий на молодежь).
Этим, собственно, исчерпывается документально зафиксированное знакомство корифея с русской дореволюционной литературой. С западной, как подчеркивал Волкогонов, обстояло еще хуже. Правда, в 1896 году во время учебы в семинарии, когда он баловался недозволенным чтением, инспектор нашел у него две книги Гюго — «93‐й год» и «Труженики моря» (а позже и трактат Летурно «Литературное развитие народных рас») [44]. Историю западноевропейской литературы Сталин усваивал, кажется, по одноименному трактату бездарнейшего марксиста П. Когана [45]. Уже в 1920‐е годы он увлекся инфантильным Брет Гартом, которого рекомендовал советским золотоискателям [46]. В тот же период всплывает у него Гейне — не как поэт, а как язвительный спорщик, удачно состривший по поводу Ауффенберга [47]. Важнее были, видимо, театральные впечатления, подсказавшие ему очередной выпад против Троцкого, — Сталин приписал ему стремление подражать «ибсеновскому герою саги старинной». В другой раз он сопоставил свое отношение к оппозиции с отношением Альфонса Доде к знаменитому вралю Тартарену из Тараскона — в изображении Сталина последний хвастался тем, будто в горах Атласа «охотился на львов и тигров ». Но тут вождь перещеголял самого Тартарена, знавшего хотя бы, что в Африке тигры не водятся (кстати, упоминал этого героя и Ленин). Кроме того, он трижды (1912, 1917, 1924) цитировал стихи «Мы живы, кипит наша алая кровь огнем неистраченных сил» — и напоследок, в четвертый раз, сославшись на них в письме Демьяну Бедному (1926), назвал автора — Уитмена, которого похвалил за чисто большевистскую жизнерадостность. Комплимент пришелся не по адресу: стихотворение сочинил народник В. Богораз-Тан, из цензурных или каких-то других соображений приписавший его знаменитому американцу [48]. Однажды, в беседе с А. Громыко, вождь «очень хвалил» Мопассана [49]; знал он, кажется, и Бальзака. Не брезговал он и бульварщиной вроде В. Крыжановской (Рочестер). Отец рассказывал мне, что знакомый лениградский библиофил показывал ему в конце 1960‐х книжку со штампом сталинской библиотеки — «Раввин и проститутка»; автора я, к сожалению, не запомнил.
Редкие перлы общекультурной эрудиции, мерцающие в этой его публицистической куче [50], — некоторые исторические экскурсы, упоминание о Менении Агриппе или пересказ мифа об Антее, украсивший концовку «Краткого курса». Вообще говоря, историей Сталин как раз интересовался, но и по этой части допускал ляпы — чего стоит его известное высказывание о «революции рабов»? Владение платоновской философией ограничено у него хрестоматийным сократовским присловьем «Клянусь собакой», которое он перенял в своих дружеских дореволюционных письмах Каменеву и Малиновскому [51], — других сократических познаний я у Сталина не обнаружил (зато, как мы позже увидим, он кое-что усвоил из семинарского Аристотеля). Интереснее его реакция на поздние «Диалоги» Анатоля Франса, где он одобрительно отслеживал скептически-антихристианские реплики автора, выполненные по большей части в банально-просветительском ключе с легкой примесью адаптированной гностической традиции. Сталин оставил безнадежно убогие помарки на страницах — все те же «Ха-ха!» и чуть более развернутые: «Ха!! Вот и разберись!..»; «Так его!!!»; «Куды ж податься!»; «Греки хорошо устроились!» — это по поводу их многобожия — и «Хорошо!», по поводу солярного культа, которому отдал бы предпочтение Наполеон. Внимание его привлекли и юдофобско-маркионитские выпады, тоже привлеченные Франсом (вслед за его собственными романами) к обсуждению темы. «Анатоль порядочный антисемит» [52], — решил он, так как вообще любил отыскивать эту свою черту у других. Экспертом в области мировой культуры Сталин мог выглядеть лишь на фоне полуграмотных Шкирятовых или своих преемников вроде Хрущева и Брежнева: ведь немногих действительно образованных большевиков он истребил — вместе с прочими — почти полностью. Для оставшихся он вполне сходил за корифея.
Что же до его лингвистической оснащенности, которую до сих пор отважно превозносят некоторые сталинисты, то о ней свидетельствуют и курьезы с перечнем языков в «Марксизме и вопросах языкознания», и обиходные высказывания вроде такого: «Пересмотр по-немецки означает ревизию». Увы, с русским языком у знаменитого языковеда тоже складывались весьма конфликтные отношения — вопреки убеждению всесоюзного старосты. Признаться, мне не хотелось осквернять жемчужное сияние сталинских нелепиц сколь-нибудь массивным комментарием — я довольствуюсь легкой оправой сопроводительных замечаний.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Михаил Вайскопф - Писатель Сталин. Язык, приемы, сюжеты [3-е изд.]](/books/1143106/mihail-vajskopf-pisatel-stalin-yazyk-priemy-syuzhety-3-e-izd.webp)