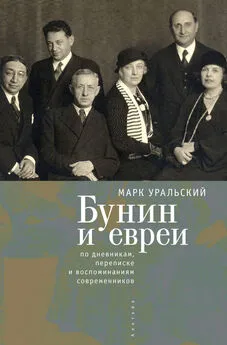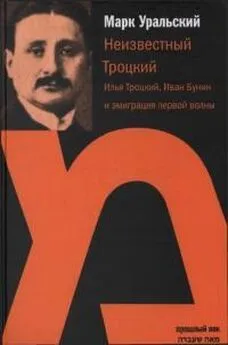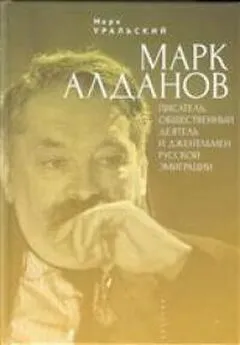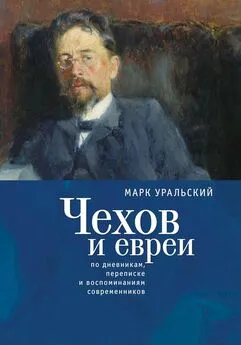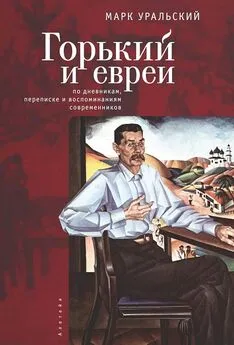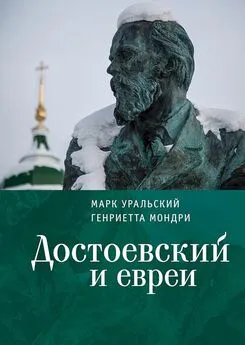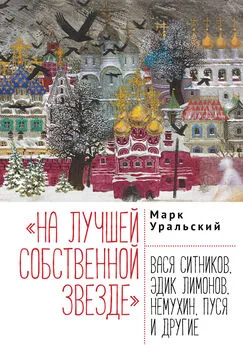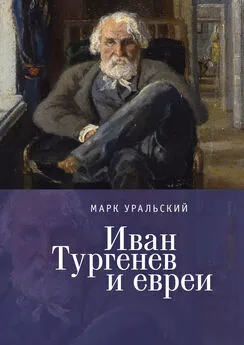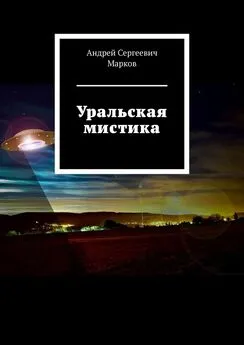Марк Уральский - Бунин и евреи
- Название:Бунин и евреи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Алетейя
- Год:2018
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-906980-47-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марк Уральский - Бунин и евреи краткое содержание
Бунин и евреи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В том же 1909 г. несколькими месяцами позже Максим Горький, всегда позиционировавший себя как юдофил, раздраженно заявлял в письме к А. Амфитеатрову от 27/28 декабря:
«Я понимаю настроение А. Белого, понудившее его закатиться в антисемитизм 60. В самом деле: вы посмотрите, какая это бестактная и разнузданная публика, все эти Мейерхольды, Чуковские 61, Дымовы <���…> и другие, имя же им – легион! В литературе русской они кое-как понимают слова, одни слова, но дух ее совершенно чужд им. <���…> Ввозят и ввозят из Европы “последние крики”, озорничают, шумят, хулиганят. И, в конце концов, от всей этой их суеты выигрывают одни только антисемиты. Факт! И давно следовало указать на “тот источник антисемитизма”» 62.
Анализируя это эмоциональное высказывание Горького, нельзя не удивиться, что такие банальные общечеловеческие качества, как нахальство, разнузданность и провокативность, выступают у него в роли характеристик национально-культурной специфики и, как следствие, представляют собой «тот источник антисемитизма». Тот же Горький, нещадно бичуя косность, лень, распутство и др. человеческие пороки в русском народе, отнюдь не был склонен объявлять их коммуникативными характеристиками «русскости», а значит возможным источником русофобии. Кстати говоря, упомянутый Горьким Осип Дымов – очень контактный человек, друживший с большинством знаменитых писателей того времени, включая Бунина, и сам являвшийся весьма и весьма популярным сатириком, прозаиком и драматургом, в своих мемуарах отмечал, что в предреволюционной России «проблема “еврей в русской литературе” <���…> была болезненной для меня лично» 63.
Нельзя не отметить, что в целом «еврейская тема в неантисемитской литературе была окружена известным набором ограничений (как замечено в рассказе Н. Пружанского “Начистоту” о еврее – русском писателе: “Он в литературе принадлежал к тому лагерю, где, по принципу, о евреях вовсе не говорят, а если и говорят, то говорят им одни только комплименты”; “Еврейская жизнь”, 1904, № I)» 64.
Массовое юдофильство русской интеллигенции, являясь, говоря современным языком, формой политкорректности, было часто неискренним, показным. Иллюстрацией этому может служить эпизод из литературного портрета Горького «Леонид Андреев»:
«…В 15-м году, когда из армии хлынула гнуснейшая волна антисемитизма и Леонид, вместе с другими писателями, стал бороться против распространения этой заразы, мы, однажды, поговорили. <���…> Он спросил: – Можешь ты сказать откровенно, – что заставляет тебя тратить время на бесплодную борьбу с юдофобами? Я ответил, что еврей вообще симпатичен мне, а симпатия – явление “биохимическое” и объяснению не поддается. <���…> – Но все-таки о евреях ты что-то выдумываешь, тут у тебя – литература! Я – не люблю их, они меня стесняют. Я чувствую себя обязанным говорить им комплименты, относиться к ним с осторожностью. Это возбуждает у меня охоту рассказывать им веселые еврейские анекдоты, в которых всегда лестно и хвастливо подчеркнуто остроумие евреев. Но – я не умею рассказывать анекдоты, и мне всегда трудно с евреями. Они считают и меня виновным в несчастиях их жизни, – как же я могу чувствовать себя равным еврею, если я для него – преступник, гонитель, погромщик? – Тогда ты напрасно вступил в это общество 65– зачем же насиловать себя? – А – стыд? Ты же сам говоришь – стыд. И – наконец – русский писатель обязан быть либералом, социалистом, революционером – черт знает чем еще! И – всего меньше – самим собою» 66.
К мнению Горького о «неискренности» юдофильских чувств Леонида Андреева следует относиться с осторожностью. Известно, что он был крайне непоследователен в своих оценках товарищей по перу и задним числом имел обыкновение возводить на них напраслину. В первую очередь это касается именно Леонида Андреева – многолетнего закадычного друга-товарища, а затем объекта суровой и явно предвзятой критики.
После того как они разошлись, Андреев, конечно, тоже критиковал Горького. А после Великой Октябрьской так вообще страстно обличал. Но, в отличие от Горького, он не придумывал про него небылиц» 67.
Впрочем, и Бунин в своих литературных мемуарах не нашел доброго слова ни для Андреева, ни для Горького, ни для Куприна, которые до Революции являлись его друзьями и соратниками, ни для кого-либо другого из знаменитых его современников-литераторов – об упреках в его адрес на сей счет см. в гл. V. Писательская ревность по отношению к конкурентам на пьедестале Славы даже у «классиков» часто пересиливает доводы рассудка и уважения к памяти о прошлом.
Заканчивая тему сотрудничества Бунина с Горьким и Леонидом Андреевым в издании «Щит», приведем несколько декларативных высказываний последнего, касающихся еврейского вопроса, с которыми Бунин, как один из соавторов этого сборника, не мог быть не согласен.
«В еврейском “вопросе” нет никакого вопроса, – я, русский интеллигент, счастливый представитель державного племени, чувствовал себя бессильным и обреченным лишь на бесплоднейшее томление духа… Сожительствуя с евреями как их согражданин, находясь с ними в постоянных сношениях, личных, деловых, товарищеских на почве совместной общественной работы, я таким образом каждый день буквально лицом к лицу становился перед еврейским “вопросом” – и каждый день с невыносимой остротой испытывал всю фальшь и жалкую двусмысленность моего положения как угнетателя поневоле. <���…>
Если для самих евреев черта оседлости, норма и прочее являлось роковым и неподвижным фактом, то для меня, русского, она служила чем-то вроде горба на спине. Когда влез мне на спину “еврейский вопрос”? Я не знаю. Я родился с ним и под ним. Надо всем понять, что конец еврейских страданий – начало нашего самоуважения, без которого России не быть» 68.
Расовая теория Вагнера-Чемберлена, так занимавшая лучшие русские умы начала XX столетия 69, после ее обкатки на практике немецкими национал-социалистами воспринимается сегодня как пример иррационального и крайне опасного с общественной точки зрения мифотворчества. А вот мотивы «юдобоязни» русских литераторов «Серебряного века», имевшие вполне прагматическую основу, поддаются критическому анализу. Основной посыл «почвенников», выступавших против появления чужеродцев на русской культурной сцене в начале XX в., это двуязычие евреев, и как следствие, неорганическое, поверхностное владение ими русским языком, а значит и невозможность через него соприкоснуться с глубинными сферами русской духовности. В этом отношении весьма показательно высказывание Зинаиды Гиппиус, которую часто и, судя по всему, без должных на то оснований обвиняли в антисемитизме, относящееся к середине 1890-х годов:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: