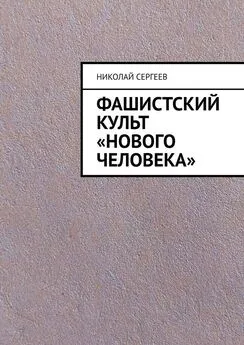Клэр Макколлум - Судьба Нового человека.Репрезентация и реконструкция маскулинности в советской визуальной культуре, 1945–1965
- Название:Судьба Нового человека.Репрезентация и реконструкция маскулинности в советской визуальной культуре, 1945–1965
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Клэр Макколлум - Судьба Нового человека.Репрезентация и реконструкция маскулинности в советской визуальной культуре, 1945–1965 краткое содержание
изданий (от «Огонька» до альманахов изобразительного искусства)
отчетливо проступил новый образ маскулинности, основанный на
идеалах солдата и отца (фигуры, почти не встречавшейся в визуальной
культуре СССР 1930-х). Решающим фактором в формировании такого
образа стал катастрофический опыт Второй мировой войны. Гибель,
физические и психологические травмы миллионов мужчин, их нехватка
в послевоенное время хоть и затушевывались в соцреалистической
культуре, были слишком велики и наглядны, чтобы их могла полностью
игнорировать официальная пропаганда. Именно война, а не окончание
эпохи сталинизма, определила мужской идеал, характерный для
периода оттепели. Хотя он не всегда совпадал с реальным
самоощущением советских мужчин, с ним считались и на него
равнялись. Реконструируя образ маскулинности в послевоенном СССР,
автор привлекает обширный иллюстративный материал. Клэр И. Макколлум — британский историк, преподавательница Эксетерского университета (Великобритания).
Судьба Нового человека.Репрезентация и реконструкция маскулинности в советской визуальной культуре, 1945–1965 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Несмотря на то что Непринцев в своем рассказе о работе над картиной, опубликованном в «Искусстве» в апреле 1952 года, не признавал, что в этой работе обращался к Репину, он охотно говорил о том, каким образом к теме произведения его привела поэма Твардовского. По утверждению художника, на воплощение таких качеств, как «храбрость, подлинный патриотизм и высокое чувство долга, героизм, человечность и уверенность в правоте своего дела и жизнеутверждающей силы», его вдохновил визит на Ленинградский фронт суровой зимой 1942 года. Там он впервые увидел эти качества воочию в частях, где ему довелось останавливаться [70]. Народный герой Василий Тёркин стал для Непринцева абсолютным средоточием этих характеристик: «Тёркин не исключителен по своей натуре, но в нем присутствуют именно общие черты советского человека… взятые напрямую из жизни» [71]. К 1945 году герой Твардовского был официально признан в качестве квинтэссенции Нового советского человека, который «ассоциировался с правдой, чувством ответственности за свою страну и высокими моральными стандартами» [72]. И все же, по утверждению Кэтрин Ходжсон, следует признать, что в действительности Тёркин оказывается в большей степени русским, нежели советским героем: он нигде не ссылается на Коммунистическую партию, Ленина или Сталина, не использует в своей речи устоявшиеся клише советской политической риторики и, похоже, остается в наивном неведении относительно политических потрясений прошлого. Хотя возвращение к национальным мотивам в культуре военного периода никоим образом не было ограничено популярной книгой Твардовского [73], Ходжсон уверена, что в данном случае относительное отсутствие специфически советского контекста было основано на глубокой вере самого поэта во «фронтовую универсальность» — на представлении о том, что фронт был местом, недосягаемым для политики [74]. Исключение политики, характерное для поэмы Твардовского, переместилось и на полотно Непринцева, на котором зафиксировано исключительно эгалитарное представление и о жизни на фронте, и о советской победе в целом. На изображенной Непринцевым сцене, далекой от напыщенности и церемонности, столь часто присутствовавших в более ранних работах на военную тему, советские вожди оставались за кадром: художник полностью сосредоточился на взаимоотношениях между обычными людьми.
В демократичном представлении Непринцева о советской победе отсутствовала не только политическая элита — как отметила Сьюзен Рейд, в «Отдыхе после боя» не было и женщин[75]. Однако следы присутствия женщин на фронте устранял не только Непринцев: визуальная культура в целом давала очень ограниченное представление о той роли, которую женщины играли во время войны. Несмотря на то что в некоторых визуальных работах они появлялись в качестве медработников рядом с ранеными солдатами [76], в целом роль женщин ограничивалось работой на домашнем фронте: они возложили на своих мужчин задачу свершения героических подвигов и терпеливо ждали их возвращения в целости и сохранности. Однако было бы несправедливо рассматривать визуальное исключение женщин из театра военных действий как признак сталинистской культуры — на деле эта тенденция сохранится и после 1965 года. Несмотря на значимые изменения в концептуализации войны, допускающие аспекты, которые прежде не удостаивались внимания или же оставались вне художественного освоения [77]. Таким образом, в художественном плане фронт практически целиком оставался исключительно мужской сферой, о чем и свидетельствовала специфика изображения товарищества. Тем не менее в одном отношении картина Непринцева действительно стояла особняком на фоне других работ на военную тематику. Речь идет о том факте, что помимо многократных публикаций в «Огоньке» ее репродукции также появились в двух главных женских журналах — «Работнице» и «Советской женщине».
Хотя после 1945 года издания, предназначенные для женщин, не избегали связанных с войной тем, и публикуемые статьи, и визуальные материалы, как правило, отражали специфику целевой аудитории конкретного журнала. В первые послевоенные годы в них преобладали рассказы о героических партизанках и описания возвращения с фронта домой. С 1950 года их стала дополнять тема роли женщин в борьбе за мир: это отражала подборка плакатов и рисунков, которыми сопровождались соответствующие публикации. Таким образом, хотя публикация изображений, связанных с войной, была в этот период сравнительно общей практикой, журналы для женщин делали акцент на женском военном опыте. Это образы медсестер, партизанок, приходящих на выручку советскому солдату, которому требуется помощь, картины радостного восстановления счастливых семей и — очень редко — душераздирающие изображения погибших детей.
В этом смысле решение опубликовать картину Непринцева в двух женских журналах крайне необычно: в изображенной сцене, где присутствуют только мужчины, нет совершенно ничего (на первый взгляд), что имело бы отношение к женскому опыту войны. Кроме того, в указанных изданиях картина Непринцева получила новое название: в «Работнице» — «Василий Тёркин», а в «Советской женщине» — «На привале». То есть и в том, и в другом случае явное упоминание о бое было устранено [78]. Это могло свидетельствовать об определенном дискомфорте, связанном с намеками, которые присутствовали в исходном названии картины, но тот факт, что ее содержание и тональность были сочтены подходящими для исключительно женской аудитории, лишь подчеркивает, насколько безобидным был советский солдат у Непринцева.
Еще одна, появившаяся чуть позже картина, в которой можно обнаружить много общего с изображением военного товарищества у Непринцева — «Утро танкистов» (1952–1954) Бориса Федорова. На этом полотне группа молодых солдат выполняет утренние процедуры у проруби — здесь представлено то же самое сентиментальное видение мужских взаимоотношений. Один из танкистов окатывает ледяной водой своего приятеля с оголенным торсом, а его товарищи тем временем наблюдают за этим, одеваясь, чистя зубы или наслаждаясь первой утренней сигаретой. Как и в «Отдыхе после боя», военная гомосоциальность на картине Федорова была показана совершенно эгалитарной, гуманной и неагрессивной, причем — в соответствии с этосом социалистического реализма — полностью лишенной всяческой сексуальности. В ней отсутствовали сомнительные вопросы эротизированного созерцания мужчинами друг друга или потенциально опасной однополой дружбы — напротив, эти мужские отношения строились как простые и шаловливо закадычные, причем они лишены какого-либо физического напряжения, несмотря на присутствие мужчин различной степени наготы. Особенно интересной в контексте репрезентации фигуры военного после окончания войны эту картину делает акцент на личной гигиене — умывании, чистке зубов и надевании чистой рубашки. Эта деталь подчеркивает то обстоятельство, что изображенные на картине люди сохранили связи с цивилизованным, «нормальным» обществом, несмотря на фронтовые условия. Как отмечал один из критиков того времени, когда картина была представлена на первой Летней выставке ленинградских художников в 1954 году, в этой сцене «сплетенного тесными узами товарищества» присутствовало притягивающее зрителя «ощущение силы и здоровья» [79].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: