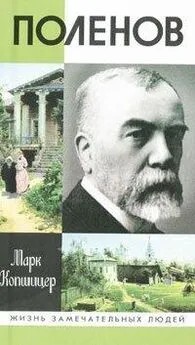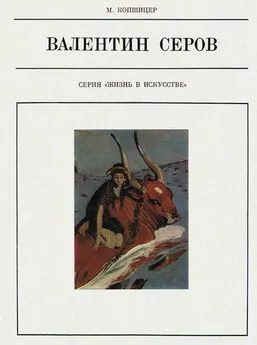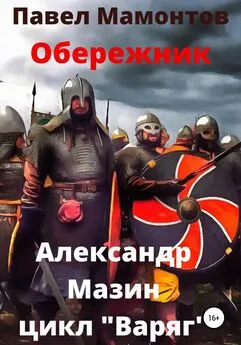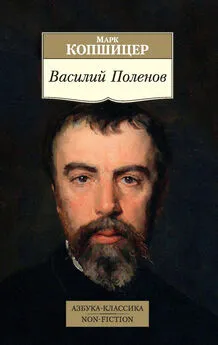Марк Копшицер - Савва Мамонтов
- Название:Савва Мамонтов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Искусство
- Год:1972
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марк Копшицер - Савва Мамонтов краткое содержание
Савва Мамонтов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но Александр Дмитриевич Самарин сумел сломить сопротивление семьи. Именно ему и был подарен Васнецовым чудесный портрет Верушки, повешен над письменным столом в кабинете и находился там до самой смерти Александра Дмитриевича, до 1932 года. Сейчас портрет этот находится в Абрамцевском музее.
Е. А. Чернышева пишет, что, несмотря на всю разницу интересов и убеждений семей Мамонтовых и Самариных, «несмотря на все это, моя мать, войдя в круг и семью мужа, завоевала всеобщую любовь».
Больше общего, чем с другими детьми, было теперь у Саввы Ивановича с Сергеем.
Сергей за свои тридцать с небольшим лет прожил довольно насыщенную и пеструю жизнь: учился дома, потом поступил в 3-й класс гимназии, перешел в другую гимназию, учился в училище Мерецкова в Петербурге, потом — в корпусе, окончил Николаевское кавалерийское училище в Петербурге в 1890 году, был произведен в офицеры, но оставил военную службу по болезни и вскоре в Риме женился на разорившейся маркизе Виктории да Пассанно. Женившись, Сергей стал акционером железнодорожных предприятий отца. В 1904 году у них родился сын, но ребенок прожил недолго.
После краха и смерти ребенка Сергей стал попивать, началась болезнь почек, но он не обращал на это внимания. Он занялся литературой и журналистикой, выпустил сборник стихов и несколько незначительных книг.
Со временем на Бутырках появились новые люди: художники, скульпторы, керамисты: Судейкин, Сапунов, Павел Кузнецов, Матвеев, Бромирский, Букша. Одно время, увлекшись майоликой, часто бывал Головин. В 1904 году побывал на Бутырках Врубель. Ему стало лучше, и врач-психиатр Усольцев поместил его у себя дома, создав условия для работы.
Все время стремились проникнуть на Бутырки Шаляпин с Коровиным. Сначала Савва Иванович видеть их не желал, потом махнул рукой — пусть. И они стали приходить. Хоть и не часто, но все же. Но, допустив к себе Шаляпина и Коровина, Савва Иванович не забывал об их измене Частной опере.
Между тем появление коровинских декораций в Большом театре реакционной прессой было встречено враждебно и рассматривалось как вторжение «декадентства на императорскую сцену». Но постепенно враждебные голоса смолкли и начали все явственнее звучать голоса одобрения: «В стенах Большого театра появилась одухотворенная художественная воля и из отдельных мелочей, по-видимому, стремится теперь создать ту гармонию, которая одна только может подарить зрителю полную иллюзию. Кажется, всем и каждому следовало бы радоваться появившейся живой струе, но не тут-то было. Вышло так, будто в душной комнате, в которой привыкла сидеть тесная компания обывателей, какой-то смельчак вдруг открыл форточку. Чистый воздух клубами ворвался в душную атмосферу и произвел общий переполох. Некоторые из обывателей стали радостно вдыхать здоровое течение, но большинство возмутилось и испугалось простуды. Как же, мол, это так? Сколько лет сидели, сидели, ни о чем не думали и вдруг — беспокойство! — Оно, конечно, душок у нас был тяжеловатый, но ведь, сидя в этом душке, и отцы наши не жаловались, и мы до седых волос дожили, и знакомые к нам хаживали!..
— Уж не „декадентство“ ли эта самая открытая форточка?!..
Еще Островский своим знаменитым „жупелом“ отметил исключительную склонность русского человека к страшным словам.
А тут подвернулось вдруг особенное прилагательное, которое ко всему можно пристегнуть, что не понимаешь, будь то философская истина или дамская шляпка, и пошел новый жупел по рукам.
Обиднее всего, что эпитет „декадентство“ пошел в моду не только у серой, заурядной публики, но проник даже в печать, хотя можно сказать с уверенностью, что объяснить точное его значение сумеют очень немногие, даже из пишущей братии.
Во всяком случае, „модная кличка“ меньше всего подходит к новому направлению Большого театра, хотя бы уже по одному тому, что стремление к художественной правде ничего общего с упадком не имеет.
Весь мир признал новое веяние в искусстве жизнеспособным, и на Парижской выставке лучшие из его представителей (в лице Серова, Коровина, Малявина) были удостоены высшей награды» [95] Матов , Новшества Большого театра. — «Новости дня», 1901, 11/XII, № 6645 (Матов — псевдоним С. С. Мамонтова).
.
Так, даже помимо желания Мамонтова, традиции Частной оперы начали проникать на казенную сцену. И нельзя не признать, что проводником этого влияния оказался Коровин.
Что касается обвинений Саввы Ивановича по адресу Шаляпина, то они были более обоснованными, чем в отношении Коровина.
10 января 1910 года газета «Голос Москвы» в статье, посвященной 25-летию Частной оперы, пересказывает отрывок из беседы С. И. Мамонтова с вел. кн. Владимиром Александровичем: «Как-то незадолго до смерти великого князя Владимира Александровича С. И. был принят его высочеством в то время, когда Репин писал с В. К. портрет. Заговорили о Шаляпине, и покойный В. К., чрезвычайно любивший русское искусство… сказал С. И. Мамонтову:
— Ведь вы первый изобрели Шаляпина.
— Шаляпина первый выдумал бог, — ответил С. И.
— Да, — заметил В. К., — но ведь вы его первый открыли.
— Нет, ваше высочество, он еще до меня служил на императорской Мариинской сцене в Петербурге, с которой он и перешел ко мне на Нижегородскую выставку.
— Но, — горячо воскликнул великий князь, — ведь все-таки вам принадлежит заслуга открытия такого гениального артиста, которого раньше не замечали.
— Позвольте, ваше высочество, — ответил С. И., — надо прежде условиться в понятии гениальности. Гений делает всегда что-нибудь новое, гений идет вперед, а Шаляпин застыл на „Фаусте“, „Мефистофеле“, „Псковитянке“, „Борисе Годунове“».
Окончив пересказывать этот диалог, автор статьи пишет: «С. И. никогда не стесняется высказывать свое мнение. Он ни перед кем не лебезит, ни в ком не заискивает, он и Шаляпину прямо в глаза говорит, что можно дойти до трехтысячных гонораров, но это будет уже не искусство, а лавочка, если не давать каждый раз новое».
Сейчас невозможно определить, когда именно происходил разговор между Саввой Ивановичем и великим князем, но осуждение Шаляпина за то, что, уйдя триумфатором на казенную сцену, он почил на лаврах, — верно, во всяком случае, для некоторого периода.
Только в 1904 году, выступив в партии Демона, Шаляпин показал нечто новое. Три года, проведенные в Частной опере, были беспрерывным движением артиста. Какое-то время в Большом театре Шаляпин существовал на художественный капитал, нажитый в Частной опере. Существует очень обстоятельная рецензия на этот спектакль. Автор ее, человек весьма компетентный, — Ю. Энгель [96] «Русские ведомости», 1904, 20 января.
. В рецензии рассказывается то, что мы уже хорошо знаем: как от безвестности на императорской сцене Шаляпин перешел к успеху в Частной опере, как он перешел опять на императорскую сцену, где «слава г. Шаляпина возросла до небывалых размеров, но… рост ее стал опережать самого артиста. И это понятно. Г. Шаляпину в Большом театре долгое время приходилось ограничиваться „повторением задов“, то есть повторением тех партий, которые уже созданы были им в Частной опере». «Для развития творческого дарования необходимо прежде всего творить, но для таких „упражнений в творчестве“ Большой театр предоставляет мало простору (несравненно меньше, чем частная сцена) уже по одной малоподвижности своего репертуара». «Большой театр давит своей косностью. Понятие творчества предполагает прежде всего нечто новое, самостоятельное, смелое; но могут ли все эти прилагательные рассчитывать на сознательное и деятельное сочувствие со стороны учреждения, по необходимости рутинного, в котором решение важнейших художественных вопросов в конце концов зависит от лиц, далеких от искусства и его истинных интересов».
Интервал:
Закладка: