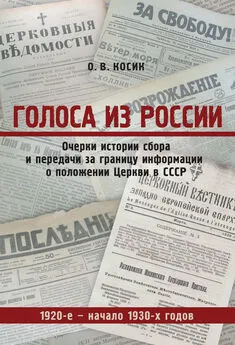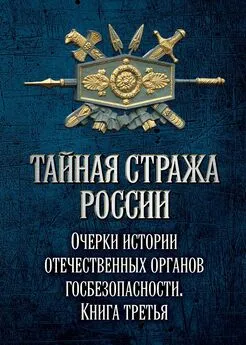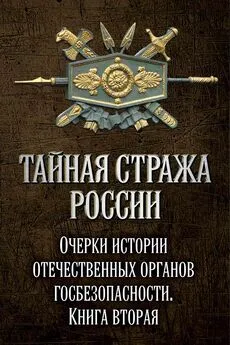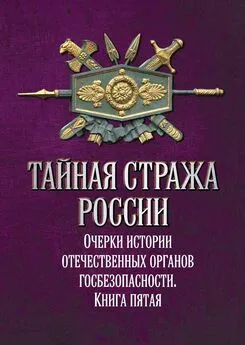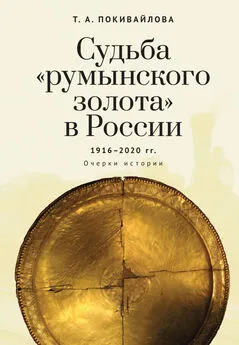Константин Богданов - О крокодилах в России. Очерки из истории заимствований и экзотизмов
- Название:О крокодилах в России. Очерки из истории заимствований и экзотизмов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:5-86793-426-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Богданов - О крокодилах в России. Очерки из истории заимствований и экзотизмов краткое содержание
О крокодилах в России. Очерки из истории заимствований и экзотизмов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В начале XIX века издания по эмблематике множатся (отметим здесь изданный в 1803 году двухтомный сборник «Иконология, объясненная лицами, или Полное собрание аллегорий, емблем и пр. <���…> гравированных г. Штиобером в Париже), но уже в 1804 году безымянный автор заметки «Девизы», опубликованной в «Вестнике Европы», сетовал, что «аллегорические изображения и надписи вышли из моды» [475]. Двумя годами позже в словаре «иностранных речений» Н. М. Яновского эмблема определяется как «род символического или не всякому вдруг удобопонятного изображения, украшаемого обыкновенно каким-либо остроумным изречением» [476]. К 1820-м годам интерес к изобразительным аллегориям постепенно затухает, а их истолкование не подразумевает обязательности соотнесенных с изображением ( pictura ) надписей ( motto: inscriptio, subscriptio ). «Словарь древней и новой поэзии» Н. Ф. Остолопова (1821) в определении эмблемы («емблемма есть аллегорическое изображение нравственной или политической мысли») так же не настаивает на необходимости поясняющего изображение текста (только «когда изображение не может быть для всякого вразумительно, тогда прибавляется несколько слов и сие называется леммою »), но зато выделяет эмблему «в словесности»: «В словесности Емблемма есть Аллегорическое изображение, под каким либо существенным видом, нравственной или политической мысли». Как пример словесной эмблемы здесь же приводится одна из строф стихотворения Г. Р. Державина «Изображение Фелицы»: «в стихах Державина», по мнению автора словаря, «каждая почти строфа составляет Емблемму» [477]. Хорошо сказанное — предстает воочию. Хорошие стихи равнозначны хорошим картинкам [478].
В общественной атмосфере России конца XVIII — начала XIX века отношение к риторике как к культурной и социальной практике, имеющей свои импликации во вневербальных формах коммуникативного дискурса, возвращало ее апологетов к аргументации европейских критиков риторической схоластики столетней давности; вместе с тем оно не было чуждо и руссоистскому тезису о благотворной «близости к природе» и эмоциональной непосредственности. Вослед просветителям (настаивавшим, что ценность сказанного определяется социальной ценностью идей, а не тех риторических форм, в которых они выражаются [479]), а также почитателям Руссо, превозносившим ценности «правды чувства» [480], восприятие риторики в России балансировало между истолкованием риторики как учения о чувствах и ее пониманием как учения о социально значимых идеях . В 1759 году А. П. Сумароков убеждал читателей «Трудолюбивой пчелы»: «Щастливы те, которых искусство не ослепляет и не отводит от природы, что с слабостью разума человеческого нередко случается <���…> Природное чувствия изъяснение изо всех есть лутчее» [481]. Ученики Ломоносова H. H. Поповский и А. А. Барсов в своей преподавательской практике в Московском университете пользуются «Риторикой» И. А. Эрнести, настаивавшего, что главное в красноречии — не правила, но «познание жизни и сердца человеческого» [482]. Федор Эмин тогда же, сочувственно поминая Жан-Жака Руссо и предвосхищая манифесты Н. Г. Чернышевского, устами главного героя в романе «Письма Ернеста и Доравры» (1766; 2-е изд. — 1792) резонерствует на предмет бесполезности стихотворства: «Стихотворство есть наука больше хороша, нежели полезна; ибо и без рифмы человек может быть велик и обществу полезен; <���…> по той причине я всех хороших профессоров философии, физики, математики, истории и медицины предпочитаю всем славным трагическим, или комическим сочинителям, которых сочинения в то время каждому человеку нравятся, когда ему делать нечего» [483]. «Любослов», безымянный автор опубликованного в 1783 году в «Собеседнике любителей российского слова» «Начертания о российских сочинениях и российском языке», напоминал о том же «почтенным господам издателям»: «Демосфены и Цицероны не столь красноречием своим, сколь силою и важностию чистого нравоучения обращали внимание к своим речам; но только сии так были расположены, что стройность и непрерывная связь мыслей всегда потрясали связь понятий народных» [484]. По убеждению юного М. М. Сперанского («Правила высшего красноречия», 1792, впервые опубликовано в 1844 году), «учение о страстях» не дополняет риторическое образование, но составляет само его «основание»: риторика не отличается от поэзии («ораторы столь же родятся, как и пииты»), а ее изучение (названию сочинения) не означает заучивание правил: «Обучать красноречию неможно, ибо неможно обучать иметь блистательное воображение и сильный ум» [485]. Теоретический скепсис на предмет оправданности риторической техники в изложении общественно полезного содержания не обходит стороной и литературные произведения. Так, Фемистокл — философствующий на манер Руссо главный герой романа Федора Эмина «Приключения Фемистокла» (1763; 2-е изд. — 1781), — превозносит «натуру» как имеющую в себе «всю потребную философию», и ожесточается против красноречия, видя в нем препятствие к поиску истины и добродетели «в сердцах и разумах»: «Не красноречие ли, по боль шей части, испортило человеческие нравы?.. Ах, ныне красноречие подобно ветряной мельнице, на ту сторону обращающейся, от куда ветер дует» [486]. М. Комаров, в предисловии к роману «Невидимка, история о Фецском королевиче Аридесе и о брате его Полумедесе» (1789), с удовольствием отмечая, что «чтение книг вошло у нас в великое употребление» среди людей «всякого звания», заявляет, что потому и сам он старался писать просто, «не употребляя никакого реторического красноречия» [487].
В начале XIX века приоритеты «общественной пользы» определяют отношение к риторике, выраженной в «Законоположении» масонского «Союза Благоденствия»: «Истинное красноречие состоит не в пышном облечении незначащей мысли громкими словами, а в приличном выражении полезных, высоких, живо ощущаемых помышлений» [488]. Воодушевленные идеалами практической филантропии масоны (а позже — декабристы) оценивают риторику с точки зрения гражданской ответственности ритора за свои слова. Оратор призван руководствоваться тем, что в терминах античной риторики определяется понятием «парессия» ( parrhessia, licentia ), — фигуральностью «свободной» речи, позволяющей оратору искренне выражать мысли и эмоции, «вольностью» (как переводил этот термин Ломоносов) проповедовать нелицеприятную истину [489]. Михаил Никитич Муравьев (1757–1807), занимавший масонский пост Ритора в ложе «Три добродетели», не допускал сомнений в том, что «красноречие не ограничивает себя приятною должностию воздавать похвалы добродетели. Оно преследует порок, срывает личину с счастливого злодея и предает его безследно пред лицом вселенной и потомства. Ежели истина и любовь человеческого рода управляет гласом витии, то добродетель не имеет защитника более ревностного и более сильного, как красноречие» [490]. «Истина и любовь человеческого рода» — это и есть те основные правила, которых следует держаться ритору. Характерно, что сам Муравьев приложил силы к написанию риторического трактата по-латыни, с примерами на французском языке [491]. Кажущийся запоздалым и странным для послеломоносовской поры языковой выбор Муравьева, блестящего русскоязычного стилиста [492], трудно объяснить иначе, чем как сознательное возвращение к значимо космополитическим языкам европейской культуры: латинские термины не нуждаются в переводе, поскольку они обозначают не новые слова, но универсальный язык общечеловеческой морали [493].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: