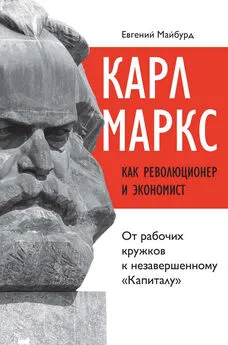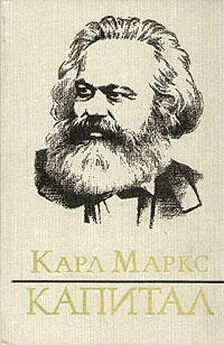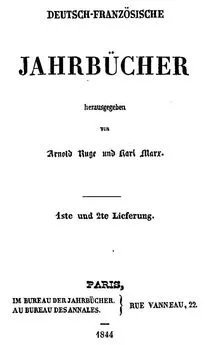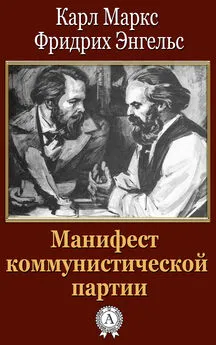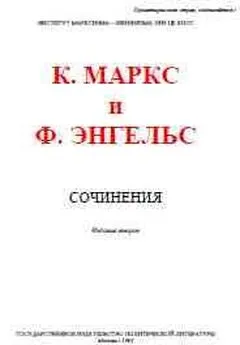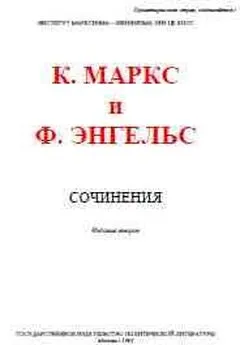Евгений Майбурд - Карл Маркс как революционер и экономист. От рабочих кружков к незавершенному «Капиталу»
- Название:Карл Маркс как революционер и экономист. От рабочих кружков к незавершенному «Капиталу»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2022
- Город:Москва, Челябинск
- ISBN:978-5-91603-738-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Майбурд - Карл Маркс как революционер и экономист. От рабочих кружков к незавершенному «Капиталу» краткое содержание
Все, чего хочет автор, – это описать, но описать адекватно. Для этого ему пришлось разработать свой метод – новаторский, отличный от всех известных подходов к предмету своего описания. По его выражению, «рассматривать марксизм как языковое явление» – поскольку предмет целиком и полностью дан нам в текстах и только в текстах. От сочинений самих основоположников, их писем, биографических или мемуарных материалов… и вплоть до газетных пасквилей или доносов в полицию – все свидетельства о предмете суть тексты различных авторов.
На какие из них можно полагаться и насколько? Отсюда автор приходит к необходимости того, что нынешняя наука называет «исчислением высказываний» и предлагает им же разработанный «индикатор достоверности». Все сказанное есть рабочий аппарат ученого, помогающий постепенно нарисовать весьма неординарную картину своего предмета.
Насколько убедительна эта картина – судить читателю.
В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.
Карл Маркс как революционер и экономист. От рабочих кружков к незавершенному «Капиталу» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Так что вряд ли было честно приобщать старых сподвижников к ответственности за свои (с Марксом) теоретические блуждания.
Но едем дальше. Во «Введении» Энгельса, при внимательном чтении, можно обнаружить еще немало интересного. Например, кроме преднамеренных признаний («мы были не правы»), выявляются еще и признания непреднамеренные. Вот, листая немного назад:
Когда вспыхнула февральская революция [21] Париж, 1848.
, все мы в своих представлениях об условиях и ходе революционных движений находились под влиянием прошлого исторического опыта, главным образом, опыта Франции (22/532).
Этим предваряется последующее признание ошибок. Не замечает Ф. Э., что подобными объяснениями ставит он в сомнительное положение теорию научного коммунизма как научную теорию. Революция 1848 г. в Париже вспыхнула в момент, когда еще не просохли чернила на рукописи «Манифеста Коммунистической партии» (1847). Выходит, что пророчества «Манифеста» были результатом аналогии в большей мере, чем итогом научного постижения законов общественного движения. Как неловко получается всякий раз с этим научным коммунизмом. Что же теперь делать?
Да ничего не нужно делать. Все остается на своих местах, все было правильно, несмотря на ошибки. Обернемся к самому зачину. Энгельс начинает «Введение» так:
Переиздаваемая здесь работа была первой попыткой Маркса на основе своего материалистического понимания объяснить определенную полосу истории, исходя из данного экономического положения. В «Коммунистическом манифесте» эта теория была применена в общих чертах ко всей новой истории (в мега-масштабе исторических эпох. – Е. М. )… в статьях в «Нойе Рай-нише Цайтунг» Маркс и я постоянно пользовались ею для объяснения текущих политических событий (в микровременно́м измерении, применительно к каждому зигзагу сложной неустойчивой ситуации в Германии 1848–1849 гг., на уровне ежедневных новостей. – Е. М .)…
…Здесь же дело шло о том, чтобы на протяжении многолетнего периода исторического развития, который был критическим и вместе с тем типичным для всей Европы, вскрыть внутреннюю причинную связь и, следовательно, согласно концепции автора, свести политические события к действию причин, в конечном счете, экономических (22/529).
Коротко говоря, в издаваемой работе временной масштаб занимает промежуточное положение между эпохальным и ежедневным. Вот тут-то и обнаруживается, говорят нам, наибольшая трудность применения материалистического метода.
В многовековом охвате – вполне, в повседневном режиме – запросто! А вот объяснить период в несколько лет – труднее всего. Вслед за цитированным читаем:
При суждении о событиях и цепи событий текущей истории никогда не удается дойти до конечных экономических причин.
Вот как объясняет это Ф. Э. Постоянно происходят изменения в экономической конъюнктуре, притом важнейшие из них «действуют скрыто в течение долгого времени».
Ясной картины экономической истории какого-нибудь периода никогда нельзя получить одновременно с самими событиями, ее можно получить лишь задним числом, после того как собран и проверен материал (Там же).
Необходимое вспомогательное средство – статистика, но она всегда запаздывает, пишет он дальше. Приходится при анализе пользоваться устаревшими данными и известными лишь фактами. Поэтому материалистическому методу приходится прибегать к упрощениям, «сводить политические конфликты к борьбе интересов наличных общественных классов и фракций классов». Так объясняет Энгельс (в 1895 г.) и продолжает:
Само собой разумеется, что такое неизбежное игнорирование совершающихся в то же время изменений экономического положения, этой подлинной основы всех исследуемых процессов , должно быть источником ошибок (22/530, курсив наш).
Видите, сколько уважительных причин открыто через полвека. И чтобы не осталось сомнений о том, к чему все это:
Когда Маркс, принялся за эту работу, упомянутого источника ошибок было в еще большей мере немыслимо избежать.
Ибо, говорит Ф. Э., во время революции следить за непрерывными экономическими изменениями «или даже сохранять их в поле зрения было просто невозможно».
Если подумать, все это очень похоже на правду. Действительно, трудно во время революции, когда политические события мелькают и проносятся, как в кино, следить за изменениями экономических процессов – не до того, пожалуй. И как это в текучке повседневной журналистики «мы» ухитрялись пользоваться методом исторического материализма? А ведь сказано именно так в начальном абзаце «Введения», притом без признания ошибок – вероятно, таковых и не было. Не чудеса ли?
Но вот уже в прошлом революция и, вместе с нею, – текучка. «Мы» уже сидим в домашнем кабинете, перебирая материалы прошедших двух лет, – теперь можно взяться за статистику? Нет!
Также невозможно это было и в первые месяцы изгнания в Лондоне, осенью и зимой 1849–1850 годов…
Отчего же невозможно, чего не хватало? Статистики? Желания? Денег? Не сказано. Деньги точно ни при чем – их Марксу всегда не хватало. Желание тоже было, ибо «именно в это время Маркс и начал свою работу» (к переизданию которой пишется «Введение»). В общем, замято для ясности.
Такова преамбула «Введения» Энгельса, призванная оправдать две ошибки, признаваемые на последующих страницах его работы и упомянутые на предыдущих страницах нашей.
Итак, честная самокритика? Ну, это как посмотреть:
И, несмотря на эти неблагоприятные обстоятельства… Маркс смог дать такое изложение событий, которое вскрывает их внутреннюю связь с непревзойденным до сих пор совершенством (22/530).
В общем и целом теория научного коммунизма абсолютно верна, две упомянутые ошибочки – мелочь, обусловленная запаздыванием статистики и другими внешними, досадными обстоятельствами. Но только не самой теорией, в которой эти ошибки ничего не меняют и не отменяют (см. наш курсив в цитате из 22/530 на с. 44). Эта теория применима для любых пространственно-временны́х измерений – от повседневной текучки в Кёльне до всемирной истории. Такова общая идея Энгельсовой диалектики «Введения».
Ради такой идеи можно и блефануть разок-другой, к примеру намекнуть, будто теория научного коммунизма обладает или когда-либо обладала неким аналитическим аппаратом, который хотя бы в принципе позволял бы выводить разнородные общественно-политические явления из цифрового материала экономической статистики.
Таким вот образом выглядит на деле признание Энгельсом прошлых ошибок Маркса – Энгельса. Что до действительных подкопов под «Манифест», то их не заметил ни сам Энгельс, ни позднейшие его критики. Цель «Введения» не дезавуировать теорию научного коммунизма, а подкрепить ее и охранить. В данном случае цель была достигнута. И потому «Введение» преспокойно опубликовано по-русски. Кто все это читает, кроме марксистских начетчиков?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: