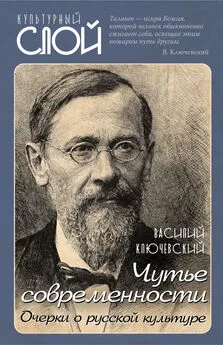Валерий Байдин - Архетипы и символы русской культуры. От архаики до современности.
- Название:Архетипы и символы русской культуры. От архаики до современности.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-00165-302-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Байдин - Архетипы и символы русской культуры. От архаики до современности. краткое содержание
В сборник включены неопубликованные и новые исследования: «Истоки русской самобытности», «Оккультная мистерия русского авангарда», «Беженец к Богу. Духовные притчи Александра Введенского», «Современный роман как языковое путешествие»… Особый раздел представляют статьи, посвященные архитектуре русской эмиграции. В очерке «Кремль, Москва, Россия» анализируются проекты виртуального и реального восстановления памятников Московского Кремля.
Издание является научно-познавательным, написано выразительным языком, хорошо иллюстрировано и предназначено для широких кругов читателей: историков, искусствоведов, филологов, священнослужителей, преподавателей, студентов – всех, кто стремится глубже узнать отечественную культуру.
Архетипы и символы русской культуры. От архаики до современности. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В X–VIII тысячелетиях до н. э., в эпоху неолита были приручены первые домашние животные и возникло земледелие, появились излишки еды и первые пищевые запреты. Вероятно, детям и женщинам разрешалось есть всё, мужчины не имели права на молочную пищу, а «матерь рода», в чрево которой не должна была попасть животная кровь, община кормила только молочной и растительной едой. Время от времени к ней добавлялась кровь умерших сородичей. Родовая мать являлась, повитухой, всеобщей нянькой и целительницей, давала грудь всем новорожденным прежде их кровных матерей, пресекала попытки кровосмешения, посвящала подростков в зрелую жизнь и вводила их в общину.
Исчезновение палеолитических «венер» в VI–V тысячелетиях до н. э. свидетельствовало об изменении самовосприятия людей – об огромном шаге к очеловечиванию. Свирепый культ «богини-матери» был, в основном, преодолён индоевропейцами уже к III тысячелетию до н. э. Его сменило поклонение «медведице-матери». Умерших оставляли ей «в жертву», чтобы они возродились в её теле, «воскресающем» каждую весну. Образ рождающего лона был перенесён на жилую пещеру, медвежью берлогу и простейшую, покрытую ветками и присыпанную землёй округлую землянку. Курганные захоронения спустя тысячелетия продолжали символически воспроизводить первобытные обряды «погребения в женском (или медвежьем) чреве». Надмогильный холм представлял собою «беременное» лоно земли, в недрах которого умерший покоился в положении зародыша, покрытого киноварью или густо усыпанного красноватой охрой – «земной кровью». Таковыми являлись захоронения ямной культуры IV–III тысячелетий до н. э. в междуречье Волги и Дона.
Первобытное «пожирание смерти» вошло в Древний мир в виде человеческих жертвоприношений женскому божеству, а затем – символических жертв различным богам. Спустя тысячелетия, когда обряд возрождения в женском чреве был давно забыт, древнегреческие орфики истолковывали его смысл на прямо противоположный: σῶμα – σῆμα «тело – могила».
Общинное сознание не знало страха смерти, люди каменного века были убеждены в перевоплощении душ, непрерывно возрождавшихся в крови рода. Именно на этой вере основывалось возникшее впоследствии почитание родовых предков. Страх небытия явился отправной точкой в пробуждении разума. Прошли тысячелетия прежде, чем древнейшие верования в бессмертие родовой крови сменились верой в бессмертие души. Полузвериные обряды «поедания смерти» были навсегда отвергнуты в лоне великих мировых религий – иудаизма, христианства, ислама, буддизма.
По всей видимости, к эпохе женской родовой общины, наряду с культом небесных светил, огня и священных животных, восходят истоки древнерусского почитания «рода и рожани́ц», память о которых сохранялась в русском Средневековье. Мать-покровительница являлась главной рожéницей – опекаемой всем родом подобно матке людского роя. В кругу приближённых к ней матёрых женщин ( баб ) сохранялись древнейшие магические заклинания – матерные слова. Они могли походить на рычание и сменяться криками, от которых стыла кровь. Так «мать рода» вместе с другими женщинами ограждала беременных, рожениц, младенцев от злых духов, зверей и пришлых мужчин. При посвящениях подростков повелительное наклонение ( пошла, пошёл ) придавало заклинаниям-оберегам особую силу. Не исключено, что в архаическую эпоху все части тела, в особенности, сакральные, считались особыми почитаемыми сущностями, к которым обращались то с мольбами, то с приказами. Женщины тайно матерились , чтобы стать матерью, а при трудных родах голосили благим матом в окружении повивальных баб.
Корневые компоненты славянских матерных заклятий восходят к индоевропейским или древнеевропейским метафорам, означавшим зачатие ребёнка (от древнерусское ребя , восходящего к праславянскому * reb -). [4] Макс Фасмер, теряя из вида смысловую коннотацию, связанную с продолжением рода, выводит слово ребёнок от раб «работник», предполагая его родство с латинским orbus «сирота». Фасмер Макс . Указ. соч. Т. III. С. 453.
Родственную этимологию, связанную с индоевропейской праформой * med - do – «промежность» имели праславянские названия мужского и женского естества * mǫdo , * manda. [5] Там же. Т. II. С. 669.
Обережными словами-сравнениями являлись обозначение * pěstъ (родственное литовскому piestà, латышскому pìesta со значением «ступа» и связанное с глаголами пихать и пестовать ), пара пестик и тычинка от тыкать, праславянское * kij «деревянная палка, молот» и др. Известен южнорусский обряд символического «толчения воды в ступе», который в свадебную ночь совершали родственницы молодых, чтобы помочь зачатию ими ребёнка. Во время архаических браков и обрядов плодородия восхваление мужского и женского естества сулило здоровое потомство и многодетность. В день свадьбы изготавливали и, подобно античным фаллофорам, носили вслед за женихом и невестой изображения детородных органов. [6] П. А. Флоренский в исследовании сельских частушек Русского Севера отметил существование архаических слоёв народного сознания, которых ещё не коснулись культурные запреты христианства: «частушка служит живым свидетелем чистоты нравов нашего крестьянства. /…/ В смысле прямоты выражений и отсутствия эвфемизмов частушки говорят столько, что исполнителям их дальше уже нечего говорить; все названо своими именами, /…/ «похабные частушки» можно было бы уподобить ифифаллам, т. е. фаллическим песням греческих дионисий». Флоренский П. А. Собрание частушек Костромской губернии, Нерехтского уезда. Кострома: Губернская типография, 1909. // URL: http://lib. kostromka.ru/florensky/chastushki.php
Почти религиозный культ слова, свойственный восточным славянам, объясняет табуирование обрядовой матерщины в то время, как у западноевропейских народов такие табу отсутствовали. [7] Успенский Б. А. Мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии // Исследования по русской литературе и фольклору. М.: Common place, 2018. С. 195.
Матерные слова были запретны для детей и мужчин, резко отличались от брани, сопровождавшей сражения с врагами, и от бытовой ругани («насмешек» – от ругатися «смеяться»): от оскорблений душа становилась скорблой – «иссыхала, сжималась», поклёпы (от клепати «ударять») делали её покляпой – клонили и прижимали к земле, клевета уподоблялась клеванию «терзанию клювом», поношения человек либо «сносил», либо отвергал «оборачивал на обидчика»; заметим, что слово обида происходит от * ob - viděti «завидовать». [8] Фасмер Макс. Указ. соч. Т. III. C. 100.
Древние бранные слова часто представляли собой сравнения: с женщинами ( баба, девка и т. п.), с подростками ( слюнтяй, хлюпик, хиляк и пр.), с отвратными, трусливыми, существами (животными, гадами, насекомыми), они уязвляли мужское достоинство, дразнили и разжигали воинский пыл.
Интервал:
Закладка: