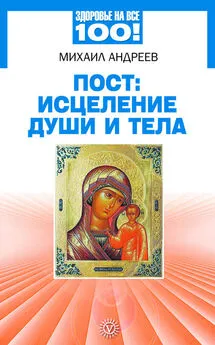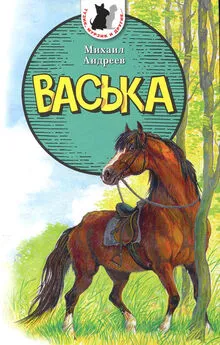Михаил Андреев - Фарс, комедия, трагикомедия. Очерки по исторической поэтике драматических жанров
- Название:Фарс, комедия, трагикомедия. Очерки по исторической поэтике драматических жанров
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-7749-1276-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Андреев - Фарс, комедия, трагикомедия. Очерки по исторической поэтике драматических жанров краткое содержание
Фарс, комедия, трагикомедия. Очерки по исторической поэтике драматических жанров - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
[11] Эта схема из трех звеньев в целом соответствует «элементарной последовательности» по Бремону. См.: Bremond C. Logique du récit. P., 1973. P. 32–33..
Характер препятствия (число которых, как выясняется, ограничено) определяет типологию комедии. Он же лежит в основе разграничения комедии и трагикомедии: начало и конец у них сходны, препятствие же в трагикомедии может отсылать как к комедии, так и к трагедии. О комедии напоминает отцовский запрет (например, у Джиральди Чинцио или Метастазио) или любовное соперничество (у Гольдони), о трагедии – конфликт любви и вышестоящих ценностей (у того же Метастазио и у Корнеля) или веление рока (у Карло Гоцци). Трагикомический характер действия определяется в этих случаях поведением героя: он не борется с препятствием, как в комедии, и не пытается осмыслить его, как в трагедии, а либо пребывает в неразрешимых колебаниях (так у Метастазио), либо смиряется со своим уделом (у Гоцци), либо устремляется к саморазрушению (так у Торквато Тассо и Джиральди). Активный герой, сам выстраивающий свою судьбу, представлен только в героических комедиях Корнеля и в трагикомедиях Гольдони: в предварительном порядке можно предположить, что чем больше в конфликте комедийного начала, тем герой активнее, и наоборот – повышение трагедийности ведет к утрате активности (страдательную роль героя допустимо считать одним из признаков трагикомедии). Предельный случай представлен трагикомедиями, входящими в корпус Бомонта и Флетчера, а также фьябами Гоцци, где препятствие непреодолимо в принципе. Заметно влияет на обрисовку жанрового лица наличие или отсутствие помощника (существенность этой роли в распределении «кругов действий» отмечена и в модели Проппа, и в модели взаимоотношений актантов по Греймасу [12] См.: Греймас А.-Ж. Размышления об актантных моделях // Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму. М., 2000. С. 163.
): для комедии его присутствие не строго обязательно (хотя задано в огромном большинстве случаев), но трагикомедию в сравнении с комедией маркирует его отсутствие (иногда его место занимает конфидент с существенно другим набором функций). Если продолжать следовать схеме Греймаса (которая, ввиду ее абстрактности, приложима к любому нарративу), то нельзя не заметить, что в комедии противник и податель часто сходятся в одном лице (например, отец возлюбленной в комедии мольеровского типа), тогда как в трагикомедии противник, как правило, – отдельная ролевая позиция. Дальнейшее жанровое размежевание связано уже с уровнем «предметной манифестации» (опять же термин Греймаса): социальное положение действующих лиц (в трагикомедии более высокое или вынесенное за пределы бытового ряда, как в пасторальной драме); историческая основа (в комедии на большем протяжении ее исторического существования невозможная); страсть (в трагикомедии) вместо характерности (комедийной).
Эти соображения носят характер отчасти гипотетический, в них имеется некоторая неравновесность. Дело в том, что глава «Пять типов классической комедии» опирается на описание феноменологии этого жанра, данное в одной из предыдущих работ автора и отмеченное известной полнотой [13] См.: Андреев М. Л . Классическая европейская комедия: структура и формы. М., 2011.
: располагая такой стартовой позицией, можно предложить типологию внутрижанровых форм, вынесенную в абстрактную синхронию. Для глав о трагикомедии («В поисках среднего жанра – 1» и «В поисках среднего жанра – 2») такой позицией автор не располагает, она только начинает обрисовываться: к тому же на данном этапе мы позволили себе лишь эпизодические выходы за рамки одной национальной традиции, итальянской, несмотря на ее некоторую периферийность (не только потому, что этот материал автору лучше известен: именно в Италии произошло рождение данного жанра). Для сколько-нибудь уверенных типологических обобщений она нуждается в дополнении систематическим анализом материала других традиций – к английской и французской следует добавить испанскую и немецкую. Но это дело дальнейших проработок.
Формы прошлого в драме, эпосе и романе
ЛИТЕРАТУРНЫЕ роды и виды, вполне определившиеся в период греческой классики, зафиксированные в этой своей определенности Аристотелем и с тех пор остающиеся базовыми категориями всякой теоретической и исторической поэтики, разграничены не только в отношении предмета, средства и способа подражания, но и в отношении времени. Эпос и трагедия, как правило, изображают прошлое, комедия, тоже как правило, – настоящее. Вслед за Аристотелем можно было бы сказать, что в данном отношении Софокл подобен Гомеру и оба они решительно отличаются от Аристофана.
Прошлое, составляющее предмет эпоса и трагедии и вообще подлежащее литературному изображению, очевидным образом разделяется на три вида – мифологическое, сказочное и историческое. Очевидно это деление не только для современного взгляда. Сказку и миф умели различать и в древности: сказка не скрывает своей вымышленности и не требует веры в истинность того, о чем рассказывает; миф опирается на авторитетное предание и имеет дело с сакральными сюжетами. Сложнее дело обстоит с мифом и историей, здесь демаркация не такая четкая, если она есть вообще: гомеровский эпос понимался, в числе прочего, и как источник исторических сведений, а история, по крайней мере в своем начале, соприкасается с мифом, выходит из него и прямо его продолжает – не только у Геродота, но и у Тита Ливия (а у Диодора миф составляет чуть ли не главный предмет исторического повествования).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: