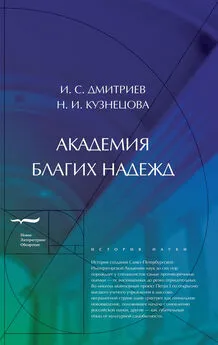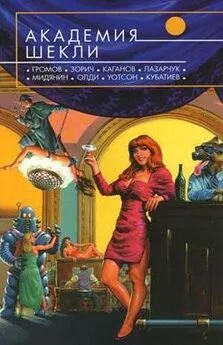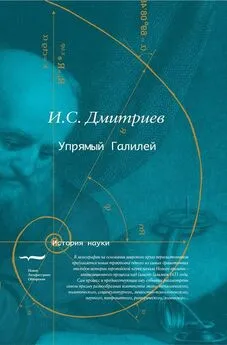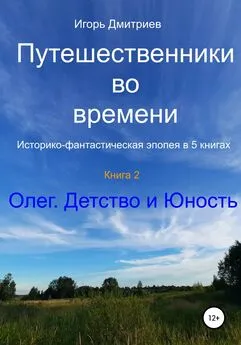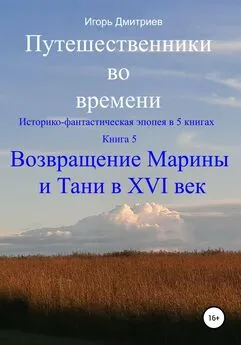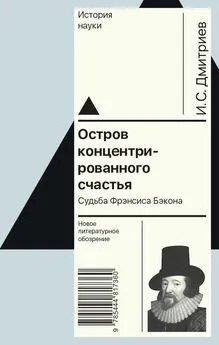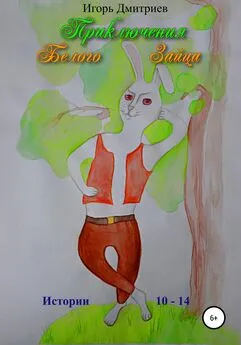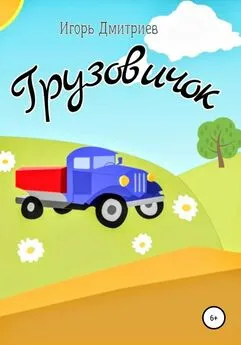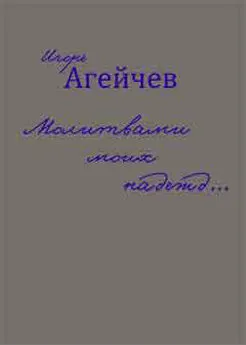Игорь Дмитриев - Академия благих надежд
- Название:Академия благих надежд
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-1096-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Дмитриев - Академия благих надежд краткое содержание
Академия благих надежд - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Критически к данным А. И. Соболевского отнесся также Б. Н. Миронов, который отметил, что «статистика подписей не дает устойчивых и точных данных об уровне грамотности, потому что результат в существенной мере зависит от того, на каких документах учитываются подписи. Кроме того, статистика подписей имеет тенденцию завышать уровень грамотности, поскольку в свидетели старались приглашать именно грамотных людей и только при их отсутствии привлекали неграмотных. Поэтому из всех имеющихся в нашем распоряжении данных о грамотности наибольшего доверия заслуживают либо те, которые получены в ходе поголовного допроса свидетелей во время судебного следствия, либо те данные, которые основаны на списках грамотных людей. Отсюда можно заключить, что грамотность мужского взрослого городского населения в последней четверти XVII в. не превышала 13 %, мужского взрослого сельского населения 2–4 % (данные о грамотности горожан относятся к Москве, где ее уровень был выше, чем в центре страны)» [84]. К этому можно добавить, что в Москве, насчитывавшей к концу XVII столетия около 200 тысяч жителей, было только две типографии – Печатный двор (государственная типография) и частная, так называемая «Верхняя» типография Симеона Полоцкого, основанная в обход патриарха в конце 1670‐х годов, тогда как в Польше в начале XVI века функционировало только в Кракове свыше 20 типографий [85].
Но дело не только в уровне даже так называемой технической грамотности (умения читать), но и в ее «качестве». На традиционной грамотности (даже если бы она была распространена так, как полагали А. И. Соболевский и А. М. Панченко), неразрывно связанной с книгами «вечных истин», «нельзя было привить и развить европейское просвещение, ознакомить людей с кругом естественнонаучных представлений, основами математических и технических знаний» [86]. И в этом смысле никакой самоуверенности в оценках российской социокультурной ситуации у Лейбница не было, он лишь зафиксировал простой факт: той грамотности, которая необходима для, как бы сейчас сказали, модернизации страны, в допетровской Руси практически не существовало, и малые европеизированные анклавы типа московской Немецкой слободы только подтверждают приведенную оценку. (Поясню: в данном контексте термин «модернизация» – или, если в качестве эталона выступают передовые страны Западной Европы, «европеизация» [87] – представляет собой более благозвучный для чутких душ субститут термина «догоняющее развитие».) Другое дело, что Лейбниц (возможно, учитывая утилитаристские настроения русского самодержца) на первое место в своих записках ставил практическую пользу наук.
Не следует забывать, что немецкий философ в разные периоды своей жизни относился к России по-разному. К примеру, в записке 1669 года Specimen demonstrationum politicarum pro eligendo rege Polonorum («Пример политических доводов, касательно выборов Польского короля» [88]) он, сопоставляя четырех претендентов на польскую корону, среди которых числился и наследник российского престола царевич Алексей Алексеевич (1654–1670), второй сын царя Алексея Михайловича и царицы Марии Ильиничны Милославской, отмечал, что крупным недостатком русского претендента является привычка «к деспотическому управлению и абсолютной власти» ( despotico regimini seu absolutae potestati assuetus ) [89], а потому «ни один христианский государь, конечно, не будет рекомендовать москвича, так как его вероломство, варварство, тирания известны. Даже Великий Понтифик знает, что надо избегать его опасного коварства» [90]. И далее по нарастающей: «Он не католик, а если станет им, то только ради власти. Ведь он отступник от греческой веры, отколовшийся от самих греческих схизматиков. Он неразумен и неопытен, он мальчик. Он не кажется терпеливым и осторожным, но варварского происхождения, нравов и воспитания. Полагая устройство королевства нелепым, он привык исключительно к деспотическому правлению с раннего детства, и врожденные нравы его едва ли исправятся. Далее, известно варварство этого народа, известна его надменность, как они болтают вздор о великих титулах, как гремят напыщенным, почти испанским чванством… Неумолимая жестокость к подданным, невыносимый произвол по отношению к побежденным. Недаром [говорил] еще Лукан: „И свирепые соседи сарматов Московиты“. Он враждебнейшим образом настроен к христианскому миру. Отсюда и отговаривание Папы Римского и духовенства, а также законы Германской империи и данные ганзейским городам распоряжения не поставлять московитским варварам военное снаряжение» [91]. Заметим, эти, мягко говоря, не вполне отвечающие действительности слова сказаны и вправду про мальчика (царевичу в то время было 15 лет), который между прочим учился у Симеона Полоцкого латинскому и польскому языкам (причем польские послы отмечали его хорошее владение ими), славянской грамматике, арифметике и философии и книги для которого выписывались из‐за границы. Но Лейбницу все это было неинтересно, он решал политическую задачу, и все, что им было сказано плохого о царевиче, фактически относилось к русским правителям вообще. Да, впоследствии его мнение о России изменилось, однако рецидивы прежнего отношения (отчасти стимулированные его общением с российской бюрократией) случались и в последнее десятилетие его жизни. В эти годы Лейбниц смог на своем личном опыте убедиться, что его интерес к России (да, весьма специфический, ибо то был интерес внешнего наблюдателя) постоянно наталкивался на полное равнодушие к познанию собственной страны со стороны русских. Он, к примеру, много лет добивался, чтобы ему прислали образцы текстов на языках народов, населявших Россию (поскольку его волновал вопрос о происхождении этносов). Но, как выяснилось, даже получить перевод «Отче наш» на несколько языков народов России и «список самых обыкновенных слов» оказалось практически невозможным, потому как дело это нелегкое и могло быть исполнено только по приказанию царя. Лейбниц решил тогда обратиться к немецкому посланнику в Петербурге, но тот ему доходчиво объяснил, что «московский народ совершенно неспособен к изысканию подобных диковинок, ибо он не прилагает ни малейшего труда ни к чему, что не пахнет деньгами или не представляет прямой пользы» [92].
Говоря о российских проектах немецкого философа, следует иметь в виду еще одно обстоятельство. Хотя Лейбниц и Петр часто употребляли одни и те же термины (академия, коллегия, социетет, наука и т. п.) и даже фразы, смыслы, которые каждый из них вкладывал в используемую терминологию, не вполне совпадали.
Лейбниц, хотя и акцентировал практическую сторону дела, все же имел при этом в виду начальный этап приобщения России к западной науке и образованию, предполагая, что в дальнейшем в стране появятся свои научные кадры, которые будут проводить не только прикладные, но и фундаментальные исследования (т. е. заниматься «чистой наукой»).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: