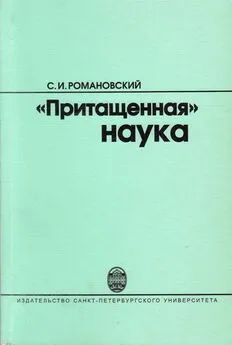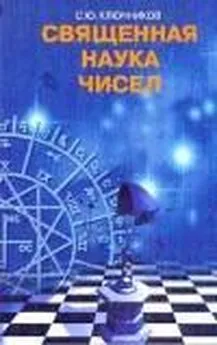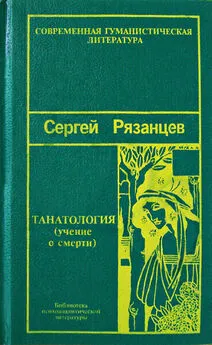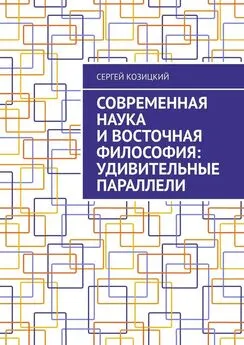Сергей Романовский - Притащенная наука
- Название:Притащенная наука
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Санкт-Петербургского Университета
- Год:2004
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-288-03345-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Романовский - Притащенная наука краткое содержание
Наука в России не стала следствием эволюции культурологической компоненты национальной истории. Её Петр Великий завез в страну из Европы, т.е., говоря иными словами, "притащил", пообещав европейским ученым "довольное содержание" труд. Наша наука, как это ни дико сегодня звучит, состоялась вследствии "утечки мозгов" из Европы. Парадокс, однако, в том, что в России европейская наука так и не прижилась. При абсолютизме она была не востребована, т.е. не нужна государству. Советская же власть нуждалась лишь в ток науке, которая ее укрепляла - либо физически, либо идеологически. К остальной науке в те годы относились с полным безразличием. Ничем (в этом смысле) не выделяется и настоящее время, идо традиционная для России "притащенная наука" ужд финишировала, а новая еще не приняла достойный России статус.
Вся эта необычная для традиционного развития науки проблематика подробно обцуждается в книге. Автор надеется, что она будет полезной историкам, историкам науки, культурологам, политологам, а также студентам гуманитарных и естественнонаучных факультетов университетов.
Притащенная наука - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Тропу «народной науки», как видим, протоптал еще Ломоносов. Затем ее утрамбовали А.И. Герцен, В.С. Соловьев и многие другие русские мыслители XIX века. Наконец, в XX столетии по этой тропе размашистой крестьянской поступью зашагал Т.Д. Лысенко – «народный академик».
Однако все это – не более чем иллюзорный прогресс науки. Ибо только последовательное эволюционное развитие ведет к подлинно революционным прорывам в неизведанное, а нетерпеливость и опережающие толчки приводят к тому, что история как бы ускользает и вместо революционных рывков наука скатывается на обочину прогресса.
Подобное уже случалось дважды: в XVII столетии, когда родилась современная наука, мысль в России еще не проснулась и наука обошла нас стороной; да и в начале ХХ века, когда произошло рождение новейшего естествознания, его колыбелью вновь оказалась Западная Европа, Россия осталась как бы и не при чем.
Причин тому много. Основной, конечно, была изначальная отчужденность научного социума от экономической системы и его жесткая зависимость от системы политической. Подобное «российс-кое своеобразие» и вынуждало ученых искать для русской науки свой особый путь; все, что было привычным для европейских научных традиций, в России приживалось с большим трудом и обидным запаздыванием. А вокруг очевидных для любого европейца вопросов у нас велись нескончаемые споры, возносившиеся, как мы убедились, до глубокомысленных философских обобщений.
Одним из показательных примеров подобных словопрений является устойчивое пренебрежение русского ума к эмпиризму. В Европе к этой «проблеме» относились спокойно. Пока в России спорили, там совершенствовали технологию добывания новых фактов, неуклонно при этом росла культура исследовательского процесса, ученые привыкали к кропотливому рутинному труду. Это позволило, в частности, выделиться экспериментальной физике и биологии, резко поднять научный уровень геологических работ.
Причем подобное состояние русского ума не было изначальным. Когда Петр задумал создать в Петербурге Академию наук, то он жестко расставил исследовательские приоритеты: ему была нужна только прикладная наука. Если он не видел «выхода» в практические дела, то просто запрещал исследования. Так он поступил с «врачом-философом» П.В. Постниковым, в опытах Арескина с ласточкой в вакууме Петр увидел лишь жестокость по отношению к «твари безвредной» [57] [57] Копелевич Ю.Х. Основание Петербургской Академии наук. Л., 1977. С. 28.
.
Практическая нацеленность русской науки была, как видим, задана еще ее восприемником. Затем она стала традиционной. Поэтому любой «теоретизирующий прожектер» мог стать лидером. Мы знаем уже, что ожесточенные споры о роли науки в русском обществе велись все XIX столетие. Причем громче всех звучали голоса тех, кто не имел к ней непосредственного отношения: А.И. Герцена, В.С. Соловьева, Л.Н. Толстого, Н.Г. Чернышевского и др.
Прав В. Сойфер, что еще в многолетнем споре западников и славянофилов родилась идея «о полезности, с учетом русского характера (sic! – С.Р.) рационального практицизма, о несокрушимой сметливости русского мужика и его способности “завсегда дать фору в сто очков” образованному немцу или, хуже того, жиду-хитрецу, и все равно победителем непременно выйти. И лесковский Левша, и многочисленные герои Салтыкова-Щедрина, который также тяготел к этой побасенке, и персонажи бажовских сказов в недавнее время воображением их создателей были призваны иллюстрировать уверенность в могучих талантах русских мужиков, “университетов не проходивших”, но от природы сметливых, знающих все и находящих самобытные выходы из ситуаций, в которых иноземцы пасу-ют» [58] [58] Сойфер В . Власть и наука. История разгрома генетики в СССР. М., 1993. С. 236.
.
Это в дальнейшем, уже в начале XIХ века члены Академии записали в свой Устав примат фундаментальной науки. Наука стала «чистой», академики отказались решать не только практически важные задачи, но даже заниматься преподаванием.
Ломоносову более всего импонировал подход к науке Пет- ра I. Он прекрасно понимал, что Петр начал коренную ломку российской действительности, страна полностью перестраивалась на новый лад, ей были остро необходимы инженеры, строители и военные специалисты. Надо было, образно говоря, сначала построить прочный и уютный дом, а уж затем, вальяжно расслабясь у камина, можно было позволить себе и пофилософствовать в компании умных людей. Установка эта оказалась, хотя и понятной житейски, но крайне пагубной для развития науки. А главное, она стала вечной для русской науки, ибо уютный и теплый российский дом так и не удается построить по сей день. Возможно и потому, в частности, что не то строили, убоявшись развития науки, а потому выказывая ей традиционное государственное небрежение.
Так или иначе, но подобная ориентация на приоритеты национальной науки стала как бы своей и для самих ученых. Они впитали ее вместе с азбукой и иной науки помыслить не могли. Даже Ломоносов, накрывший своим могучим интеллектом все разрабатывавшееся в его годы научное поле, и тот основным приоритетом науки считал не поиск Истины, а ее практическую пользу [59] [59] См.; История Академии наук СССР. Т. I. М., 1958; Уставы Академии наук СССР. М., 1974. 208 с.
, а применительно к исторической науке – государственную целесообразность и полезность. Практическую ценность научных открытий он называл «художествами» и наставлял своих коллег: «Профессорам должно не меньше стараться о действительной пользе обществу, а особливо о приращении художеств, нежели о теоретических рассуждениях» [60] [60] Ломоносов М.В. Полное собр. соч. Т. III. М.;Л., 1957. С. 19.
.
Правда и эти пожелания повисали в воздухе, ибо для разработки конкретных, да к тому же практически важных проблем необходимо, по меньшей мере, два условия: чтобы эти проблемы были действительно нужны обществу, т.е. востребовались им, да и иная культура научного творчества, в частности экспериментальная, отторгавшаяся, как мы отметили, традиционно русским миросозерцанием.
Именно из-за внутренней убежденности ученых в ненужности их труда проистекали все чисто российские «особости» отношения к науке, которых при иных условиях просто бы не было.
На самом деле, если бы русские ученые чувствовали свою нужность государству, разве пришло бы им в голову рассуждать о полезности науки, о ее приближении к народу, о том, что важнее – факты для теории или теория для фактов и тому подобные глубокомысленные сентенции. Причем все это было актуально для русской науки еще во времена Ломоносова и только поэтому данные «особости» мы назвали ломоносовскими корнями русской науки [61] [61] Романовский С.И . Ломоносовские корни русской науки // Новый часовой. 1999. № 8-9. С. 361 – 373.
.
Интервал:
Закладка: