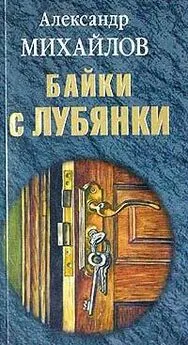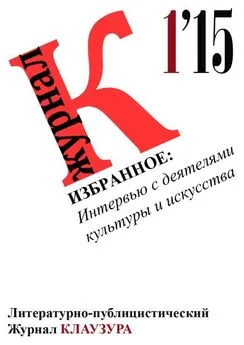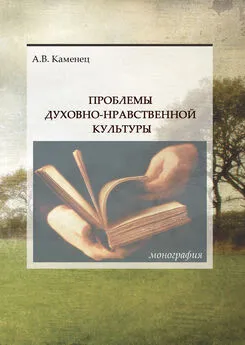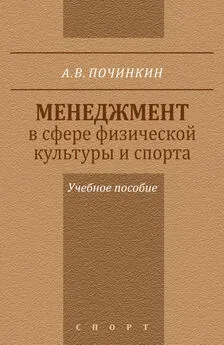Александр Михайлов - Избранное : Феноменология австрийской культуры
- Название:Избранное : Феноменология австрийской культуры
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Центр гуманитарных инициатив
- Год:2009
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-88415-998-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Михайлов - Избранное : Феноменология австрийской культуры краткое содержание
В книгу А.В.Михайлова входят статьи, переводы и рецензии, появлявшиеся в различных сборниках, антологиях и журналах на протяжении многих лет, а также не публиковавшиеся ранее тексты. Все работы содержат детальный анализ литературных, музыкальных и философских произведений. Во всех статьях речь идет о типологии австрийской культуры и ее глубоком своеобразии.
Избранное : Феноменология австрийской культуры - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В Австрии и в Германии, где его много раз ставили на сцене — с успехом и со скандалом, — спокойному восприятию Бернхарда как феномена мешал своего рода локальный патриотизм. В Бернхарде
видели очернителя, пачкающего родное гнездо, и против него дружно вставали охаянные им города. «Зальцбург, — читаем в переводе Р. Райт-Ковалевой, — поддельный фасад, на котором весь мир беспрерывно пишет свои лживые декорации, а за этим фасадом оно (творчество) или он (творец) хиреет, пропадает, погибает вконец. Мой родной город, говоря по правде, — смертельная болезнь, и жители его с этой болезнью рождаются, заражаются ею, и если они в решающую минуту не сбегут, то раньше или позже погибают в этих чудовищных условиях: то ли внезапно кончают с собой, то ли, сразу или не сразу, уныло гибнут в этой среде, на этой по самой сущности своей враждебной человеку архитектурно-епископально — тупо — фашистски — католической кладбищенской земле… Он — страшное кладбище для всякой мечты, всякого порыва». Итак, Зальцбург — смертельная болезнь и страшное кладбище, и это еще не самое тяжкое слово Бернхарда о близких ему городах. О близких, о душевно близких! А вместе с тем о таких, в которых он в очередной раз убеждался, что не может там жить. Но тут же и спросим себя: а как же жить? Как жить с тем острым ощущением бесчестия, глума, которым подверглись само место, сама земля, сам город, сами камни его? Потому что ведь так, а не иначе воспринимает все чуткая душа, у которой на эти камни наложены жуткие воспоминания прошлого и для которой эти улицы раз и навсегда окрашены кровью и овеяны запахом попранной плоти. Со стороны порой виднее, и можно понять, что слова Бернхарда о Зальцбурге, Аугсбурге и других городах, в которых ему довелось побывать, — это продолжение… поэтики в жизнь подобно тому, как сама его поэтика, и в частности поэтика драм, продолжает жизнь, как увидена и пережита она им. А поэтика такова — это вновь поэтика выбившихся из «нормальной» жизни, обреченно обособившихся человеческих или уже нечеловеческих миров. И каждая драма тоже «монологический мир» или столкновение таких сугубо «монологических» миров, — однако в разрухе человеческого мира, на его развалинах провидится архаика, несложенность раннего: главный герой все равно что протагонист «прежней», стародавней трагедии, а окружают его подающие реплики персонажи, запускающие в ход монолог одержимого (одержимого своей идеей и своей судьбой) и не дающие ему остановиться, и эти как бы вспомогательные персонажи — тени или марионетки былого полнокровного мира. Хочется представить себе этих второстепенных персонажей древним хором, но только разбежавшимся, поседевшим, беспомощным, бесприютным, неприкаянным, не отпущенным вовремя со сцены жизни…
Бернхарду — хотя не без образцов — удалось выработать свой драматический слог, которого он придерживался во всех драмах, — это деленная на стихи проза, или прозопоэзия создает музыкальную, словно взвешенную интонацию, одновременно напряженную или иной раз надрывно-пронзительную и едва касающуюся «земли» и тяжелого вещества. Интонация приподнятая, и она же превосходно отвечает изъятому из настоящего мира существования — оно, это существование (и, значит, персонаж, герой пьесы), здесь, в этом мире, но все же и не здесь, или «этот» мир перестал походить сам на себя.
Бернхард, создавая статические, в сущности, драмы-монологи, в которых порой гибель героя наступает от полного самоисчерпания монологической идеи, владел искусством физиогномически-точной характеристики через интонацию — через интонацию, которую можно было бы назвать жест-интонацией. Все у него в стихе, все в слове. Каждый отрезок речи («стих») натянут как струна, и любая речь разбита на музыкально-обособленные, интонационно-самостоятельные фрагменты — иногда против синтаксиса, но не против смысла, который таким чутким дроблением и воссоздается в новом, конкретном своем облике. Не удивительно, что Бернхард если и не создал свой театр (свой особенный художественный мир он, однако, создал, и это безусловно так), то создал своего актера, — таким актером стал Бернхард Минетти, способный на полную отдачу в физиологически-разительной, стало быть, доведенной до абсолютного жизнеподобия игре. До абсолютного жизнеподобия! Сам создание эпохи «театра абсурда», Минетти чувствует всю жизненность этого странного театра: «В отличие от многих критиков я считаю Бернхарда вполне реалистическим, конкретным автором, это слова Минетти. — В фигуре генерала (речь шла о пьесе «Праздник для Бориса») я вижу консерватора, который подсознательно страдает от своего консерватизма и гибнет из-за него. Подлинно трагическая фигура в своей погруженной в обыденность мании! Подобно античным персонажам, он слепо идет навстречу своей судьбе. Но с другими персонажами пьесы она соотносится вполне реалистично… Фигура из жизни. И это во всех его персонажах так важно для меня, — не говоря о великолепной поэтической силе, о его литературной музыкальности, о его ритме. И о дифференциации, — бывает, что каждая фраза влечет в свою сторону. И это для актера неслыханно привлекательная и сложная задача — настоящее приключение, поиски…»
Остается помянуть добрым словом этого, еще не узнанного писателя, он еще только придет к нам.
Печатается по изданию: Театральная жизнь. М., 1989: № 21 С. 14–15,
Примечания
[1]
von Hofmannstal Η . Gesammelte Werke in zehn Einzelbänden. Fr. a. M., 1979. Bd IX. Reden u. Aufsätze. S. 14.
[2]
Grillparzer F. Sämtliche Werke / Hrsg. von P. Frank u. K. Pömbacher. München, 1964. Bd III. S. 810.
[3]
История эстетики: Памятники мировой эстетической мысли. М., 1967. T. III. С. 473, 475–476.
[4]
Без Б. Больцано невозможно писать не только общую историю австрийской культуры, но и историю ее литературы настолько ясно выражены в его работах (внешне чуждых поэзии) духовные ее предпосылки.
[5]
Stifter A. Sämtliche Werke. Prag, 1916. Bd 17. S. 238.
[6]
Blumauer JA. Gedichte. Fr. a. M; Leipzig. 1785. S. 6.
[7]
Zeman H. Die österreichische Lyrik des ausgehenden 18. und des frühen 19. Jahrhunderts: Line stil u. gattungsgeschichtliche Charakteristik // Die österreichische Literatur: Ihr Profil im 19. Jahrhundert. Graz, 1982. S. 531–532.
[8]
Kindermann H. Einführung // Dichtung aus Österreich. Wien; München, 1966. S. 47.
[9]
Grillparzer F\ Sämtliche Werke. München, 1970. Bd II. S.74.
[10]
Ibid. 1969. Bd I. S.186.
[11]
Ibid. S.215.
[12]
Cm.: Sengle F. Biedermeierzeit. Stuttgart, 1980. Bd 111. S. 57ff.; Kaunz F. Grillparzer als Denker. Wien, 1975. S. 290ff.
[13]
Cm.: Seidler H. Grillparzer und Lenau//Literaturwissenschaftliches Jahrbuch: Im Aufträge der Förres — Gesellschaft, 1975. N.F. Bd 14. S. 337–358; Sengle F . Op. cit. S. 640 690.
[14]
Lenau N. Sämtliche Werke und Briefe / Hrsg. von W. Dietze. Leipzig, 1970. Bd 1. S. 64.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: