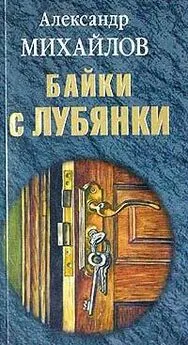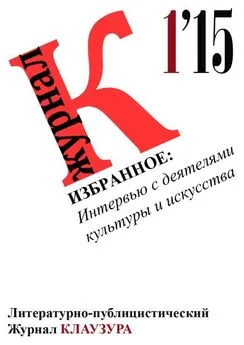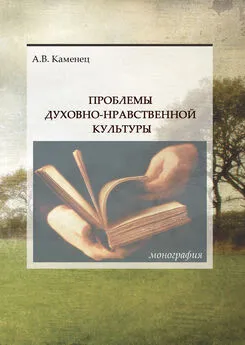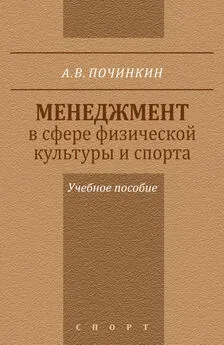Александр Михайлов - Избранное : Феноменология австрийской культуры
- Название:Избранное : Феноменология австрийской культуры
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Центр гуманитарных инициатив
- Год:2009
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-88415-998-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Михайлов - Избранное : Феноменология австрийской культуры краткое содержание
В книгу А.В.Михайлова входят статьи, переводы и рецензии, появлявшиеся в различных сборниках, антологиях и журналах на протяжении многих лет, а также не публиковавшиеся ранее тексты. Все работы содержат детальный анализ литературных, музыкальных и философских произведений. Во всех статьях речь идет о типологии австрийской культуры и ее глубоком своеобразии.
Избранное : Феноменология австрийской культуры - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Целесообразно, видимо, привести некоторые справочные сведения о двух романах Броха. «Смерть Вергилия» была опубликована впервые в 1945 году. «Невиновные» — более позднее произведение. Фактически это не так. «Роман в 11 рассказах» подытоживает все свое творчество Броха, будучи результатом циклизации его новеллистических по жанру произведений, создававшихся начиная с 1915 года. Последние из вошедших в роман новелл написаны в 1949–1950 годах, среди них один из лучших рассказов писателя — «Рассказ служанки Церлины», вариация на тему Дон Жуана. Способ создания романа весьма характерен для Броха — большая часть вошедших в него текстов существует в нескольких редакциях — до пяти, которые создавались в разные годы и десятилетия и нередко публиковались отдельно. В романе они объединены в три группы — «Голоса 1913 года», «Голоса 1923 года», «Голоса 1933 года». Таким образом, Брох передает в этих разделах социально-психологическую атмосферу эпохи на ее срезах в важнейшие моменты истории и в ее движении к роковым событиям 1933 года. Это роман о тех людях, которые пассивно «терпели» наступление зла и не препятствовали ему. Замысел — весьма близкий Броху, отвечающий его типу творчества; сам замысел как бы растет вместе с историей, медленно и с напряженным вслушиванием в происходящее. Нечто подобное — в «Лунатиках» («Сомнамбулах»); все это следует понять как очень серьезный и художественно-весомый отклик на события XX века, где все «гуманно»-символическое следует понять тоже как художественное средство передачи «атмосферы» истории и не идти в толковании романа на поводу у западной критики, как это мы, к сожалению, так часто делаем. У романа «Смерть Вергилия» — несколько более простая творческая история, хотя ему тоже предшествовал рассказ 1937 года. «Возвращение Вергилия». «Вергилий» — символический образ писателя в нашу эпоху с его кризисами, бедами и искушениями; он ничего общего не имеет с традиционным типом исторического романа.
Предлагаемый план издания Броха предусматривает перевод двух его произведений — «Смерти Вергилия» и романа «Невиновные», как уже сказано, сложенного из новелл. Мне это сочетание представляется весьма удачным и благоприятным для постижения его нашими читателями: «Смерть Вергилия» — вещь замечательная, но, конечно, наиболее проблемная и проблематичная из всех произведений писателя; давать ее отдельно можно, но с «риском» неверно подать писателя (как это уже многократно сделано в зарубежных публикациях, особенно журналистских, для которых Брох это автор «Смерти Вергилия» и только, а это неверно); здесь же этот шедевр Броха будет уравновешен его другим произведением — куда больше открытым к непосредственности жизни, к вещам и т. д. На мой взгляд, не мешает, а лишь способствует публикации этого романа то, что некоторые из составляющих его новелл уже будут изданы в ленинградском сборнике: здесь они предстанут в новом свете, в контексте более широкого замысла. По моим подсчетам, общий объем двух романов — несколько меньше 35 а<���вторских> л<���истов> что позволяет удобно соединить их в одном переплете. В целом же я не только приветствую это издание (со всем вкладываемым в это слово пафосом), не только желаю успешного его осуществления, но также думаю, что настоящим вопросом, который должен волновать издательство, есть не вопрос о правомерности этой книги и ее состава (все это бесспорно ), а вопрос о том, как, какими средствами, в рамках каких серий, чьими силами возможно осуществить в обозримые сроки издание остальных романов Броха. Что сделать это совершенно необходимо и что это, но причинам существенным и вполне очевидным, не требует отлагательства, для меня совершенно ясно; к тому же и объем всех остающихся романов не столь уж велик!
Источник: Машинописная копия (архив A.B. Михайлова): 6л. Авторская пагинация.
Воспоминания о неузнанном: Некролог Т. Бернхарду
Какая беда и какой злобный выверт судьбы; мне надо представить читателю писателя, поэта, драматурга, самое имя которого ему, читателю, скорее всего, неизвестно, и делать это тогда, когда этот писатель умер, рано, безвременно, и неожиданно (для сторонних), и — скажу так — незаслуженно… Надо знакомиться, и тут же прощаться, и печалиться о только что родившемся, и заглядывать в то прошлое, которое, собственно, было рядом, но оставалось недоступным, неизвестным и неузнанным. Томас Бернхард, австрийский писатель, который со временем станет гордостью литературы Австрии, признанный и оцененный всеми (не только германистами и не только диссертантами), — Томас Бернхард прожил на свете 58 лет. Почти ровно столько, почти день в день: родившись 9 или 10 февраля 1931 года, он умер 12 февраля 1989 года. 58 лет. Много и мало. Мало для жизни спокойной, безмятежной и малосодержательной, много — для беспокойной, полной тревог; наоборот, мало — для жизни без событий, много — для уставшего человека, для его натруженных рук, для его утомившегося мозга. Много для написавшего, для создавшего много, мало — для того, кто, десятилетиями творя, неуклонно, несомнительно рос и возрастал в своем умении и в своем значении… Мало для писателя, которому оставалось создать много, много для того, кто всю жизнь жил под знаком смерти. Словно осененный ею. И словно ею же благословленный на творчество.
Едва став писателем известным, Бернхард заперся ото всех в своем сельском доме, в своем сельском уединении. Поэтому не совсем точно известно, отчего он умер, кажется, от давней болезни легких. В нем, как мало в ком, смерть билась зримо — в его теле и душе, словно тело и душа сделались прозрачными, говорила и рокотала в нем, как подсказывает известное стихотворение P.M. Рильке. Подросток, почти еще ребенок в год окончания войны, Бернхард вынес в десятилетия послевоенной жизни ужас пережитого и — в том свидетельство надындивидуального и потому подлинного призвания — всю жизнь молчал и говорил об этом ужасе. Говорил и молчал, потому что, оказывается, есть вещи, о которых невозможно рассказать, и уж тем более рассказать до конца, есть вещи, о которых нужно молчать, потому что любой рассказ отстает тут от своего «предмета», любой рассказ получается недостойным своей «темы», а потому изменяет ей и предает ее. После Освенцима лирическая поэзия невозможна, как говорил один немецкий философ, и это правда: она возможна лишь тогда, когда вберет в себя ощущение своей невозможности, немыслимости, когда будет создаваться вопреки себе… Потому же всякое «говорение» тщетно до тех пор, пока не усвоит свою напрасность и пока не заключит в себе ледяную, не тающую глыбу молчания — онемения. Так Бернхард говорил и молчал всю жизнь — молчал и говорил — отчасти молчал, отчасти говорил.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: