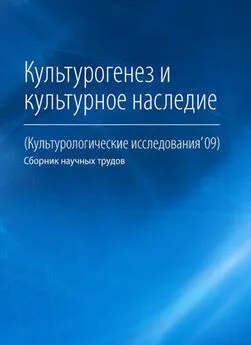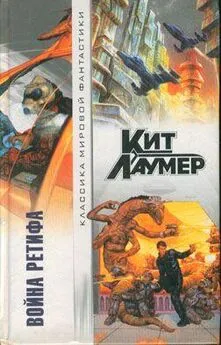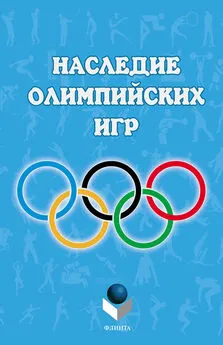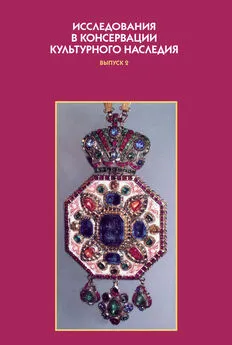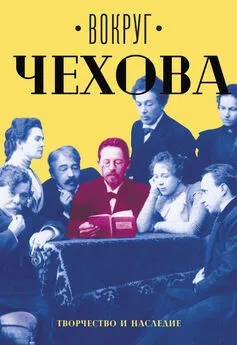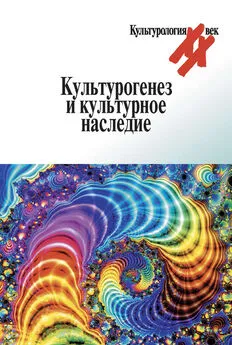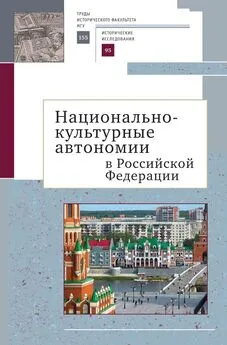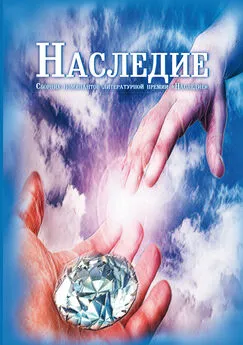Коллектив авторов - Культурогенез и культурное наследие
- Название:Культурогенез и культурное наследие
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Астерион»f0edbaa9-50c8-11e2-956c-002590591ea6
- Год:2009
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-94856-572-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Культурогенез и культурное наследие краткое содержание
Издание представляет собой сборник научных трудов коллектива авторов. В него включены статьи по теории и методологии изучения культурогенеза и культурного наследия, по исторической феноменологии культурного наследия. Сборник адресован культурологам, философам, историкам, искусствоведам и всем, кто интересуется проблемами изучения культуры.
Издание подготовлено на кафедре теории и истории культуры Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена и подводит итоги работы теоретического семинара аспирантов кафедры за 2008 – 2009 годы.
Посвящается 80-летнему юбилею академика РАЕН доктора исторических наук Вадима Михайловича Массона.
Культурогенез и культурное наследие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Резкое противопоставление кажется нам неверным, ибо мы должны мыслить не в категориях «высокое – низкое», а учитывать то обстоятельство, что перед нами – два принципиально различных типа страха. Американцам более родственен «приближенный» страх, подрывающий чувство защищенности человека в том смысле, что экстремальные события могут разворачиваться на соседней улице, в соседнем доме, и никто не застрахован от невольной сопричастности к ним. В этом смысле любопытна шестая часть «Хэллоуина» (реж. Д. Чаппелли, 1995), где главный герой в детстве видел маньяка Майкла Майерса, но, по счастливому стечению обстоятельств, остался жив, что, однако, неотвратимо вовлекает его в череду событий, связанных с этим же убийцей, многими годами позже. Этот страх очевидно берет свое начало в городском фольклоре, конкретнее – в городских легендах, в которых приближенность событий к рассказчику и слушателям является спецификой жанра и даже гарантом достоверности нарратива [320].
Другой тип страха активно подпитывается творчеством Г.Ф. Лавкрафта, наполненным языческими мотивами, и являет собой «космический» страх, нарастание которого в финале перетекает в ужас, как высшую степень страха, позволяющую прикоснуться к глубинному хаосу бытия. Такой страх ведет к чему-то первобытному, запредельному, вырывается за рамки узкой локализации повседневной жизни. Сам Г.Ф. Лавкрафт характеризует историю о сверхъестественном следующим образом: «В ней должна быть ощутимая атмосфера беспредельного и необъяснимого ужаса перед внешними и неведомыми силами; в ней должен быть намек … на самую ужасную мысль человека – о страшной и реальной приостановке или полной остановке действия тех непреложных законов Природы, которые являются нашей единственной защитой против хаоса и демонов запредельного пространства» [321].
Характерно, что человек, прикоснувшийся хотя бы раз к запредельному, получает некое «знание» о нем, постепенно уводящее его из обычного мира и погружающее в мир запредельный, что сказывается на его поведении, мышлении и внешнем облике, который может претерпевать весьма причудливые трансформации («Извне», реж. С. Гордон; «В пасти безумия», реж. Д. Карпентер; «Кроуч Энд», реж. М. Хабер).
К примеру, импульс от этого наследия получил испанский хоррор, в сюжетах которого фигурирует не зло в наиболее конкретных его проявлениях (маньяк, монстр и т. д.), но зло абсолютное, первозданное, как чистый хаос.
По этому же пути шел итальянский хоррор 70-80-х годов XX века, где противостояние строгим рамкам католицизма выражалось в склонности к нигилизму и мистицизму. В жанровом отношении итальянцы практически не открыли ничего нового (в качестве исключения может быть назван только поджанр, получивший название «джиалло» [322]), а порой и вовсе выдавали вторичные и откровенно халтурные работы, паразитировавшие на известности того или иного имени.
Итальянцы внесли вклад в жанр исключительно со стороны стилистики, в которой и заметен уклон в сторону запредельного ужаса. Они также обогатили хоррор эстетикой гниения и разрушения, атмосферой некрокошмара: при просмотре ряда итальянских фильмов создается впечатление, что от экрана начинает веять сыростью склепа, появляется сладковатый привкус гниения. К 1990-м г. в силу ряда причин (от отсутствия государственной поддержки кинематографа до вырождения хоррора в тошнотворный натурализм, не отягченный особым смыслом) итальянцы не просто оказались на жанровой периферии, но и вовсе ушли со сцены, оказавшись в забвении.
На основе многочисленных примеров, рассмотренных выше, можно утверждать, что хоррор, несмотря на наличие мифологических персонажей, иррациональные объяснения происходящему и т. д., никогда не теряет связи с реальностью, что роднит его с жанром научной фантастики. В принципе, ни фантастика, ни хоррор не отделены друг от друга непроходимой стеной различий: об этом свидетельствует даже название одной из американских киноакадемий – The Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films, основанной в 1972 году.
Дело в том, что рассматривая такие жанры как хоррор, научная фантастика или фэнтэзи, мы всегда отталкиваемся от человеческой способности фантазировать и воображать, что объясняет глубинное родство упомянутых жанров.
Но в фантастических и хоррор фильмах мы всегда имеем дело с теоретически возможными событиями. Подобные фильмы – своего рода фантазия, отвечающая на вопрос «Что было бы, если…», которым постоянно задается бесконечно любознательный человек. Поэтому зрителю и предлагают наглядно представить, что было, если бы Земля столкнулась с астероидом, если бы наладили процесс массового производства клонов, если бы внезапно ожили все покойники и т. п. Хоррор, при всей иррациональности, присущей жанру, никогда полностью не утрачивает привязки к реальности. Скажем, хрестоматийное объяснение появления маньяков-уродов как следствие крайне неблагоприятных экологических условий (утечки ядохимикатов в «Повороте не туда 2» или ядерных испытаний в «У холмов есть глаза») имеет под собой вполне научно обоснованную подоплеку, так как доказано наличие корреляции между экологическим фактором и риском возникновения серьезных психических патологий в виде маниакальных влечений [323]. Аналогичным образом авторов фильма «Пункт назначения 3» к созданию сцены, где происходит крушение американских горок, вероятно, подтолкнули цифры статистики. Ведь только в США на различных аттракционах более ста тысяч человек ежегодно получают травмы различной степени тяжести [324]. В кинокартинах жанра фэнтэзи, напротив, нас погружают в полностью вымышленный мир, который не имеет никаких отсылок к миру реальному.
В фильмах жанра science fiction человек прорывается в неизведанные миры и потаенные уголки Вселенной, открывает новые природные законы и использует их; в фильмах ужасов иные миры, чуждые и враждебные, просачиваются в освоенное человеком пространство, а природные законы временно отменяются, останавливаются.
Как отмечает Б.К. Грант, «ужасы вызывают «закрытую» реакцию, а фантастика – «открытую» [325]. Поясняя свою мысль, автор утверждает, что хоррор имеет дело прежде всего с замкнутым, ограниченным пространством, вызывающим клаустрофобию. Часто мы имеем дело с существенным ограничением поля зрения – достаточно вспомнить, что подавляющее большинство страшных событий происходит в темное время суток, на которое могут дополнительно накладываться погодные явления в виде ливня или тумана.
Научная фантастика, напротив, по меткому замечанию Д. Найта, пытается расширить наши горизонты в каком-либо направлении [326]. Если хоррор предельно сжимает пространство, то фантастика его беспредельно расширяет. Проводя различие между жанрами, Б.К. Грант также указывает на то, что монстры в хорроре являются антропоморфными, «то есть внешне ведут свое начало от человека, хотя и в извращенной или «промежуточной» форме» [327], в то время как чудовища из научной фантастики имеют принципиально «негуманоидные формы» [328](«Чужой» Р. Скотта).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: