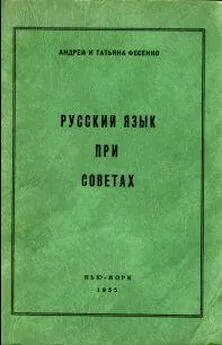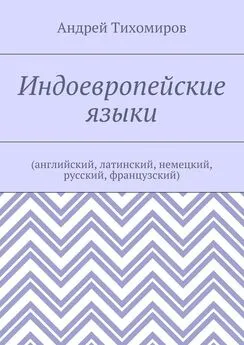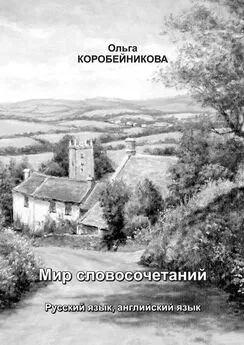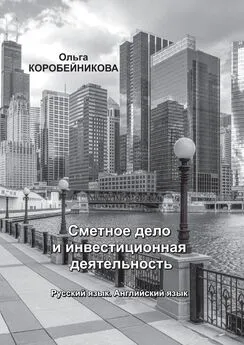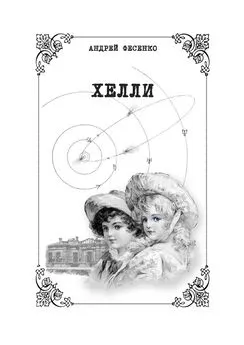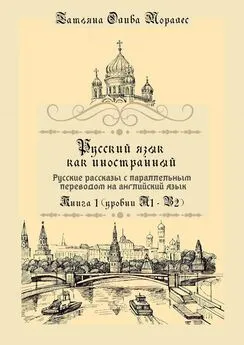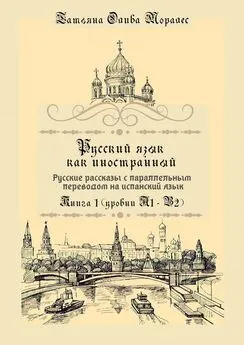Андрей Фесенко - Русский язык при Советах
- Название:Русский язык при Советах
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:RAUSEN BROS
- Год:1955
- Город:142 E. 32nd. Street New York 16, N. Y. 317
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Фесенко - Русский язык при Советах краткое содержание
Русский язык при Советах - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
[17]Сюда же примыкают неофициальные названия принудительных работ – «принудиловка» и лица, приговоренного к ним, «принудиловец».
[18]О подобных эвфемизмах упоминается в статье К. Державина «Борьба классов и партий в языке Великой Французской революции», стр. 54:
«Вместо ‘a mort’говорили ‘elargissez’, ‘a l’Abbey’, ‘a Coblentz’. Обезглавление именовалось термином ‘la detruncation’».
[19]За постепенным возвращением в литературный обиход многих изъятых в первый период Революции слов, последовало теоретическое обоснование подобного явления лицемерной ссылкой на якобы нейтральность их (при том, что несколькими годами раньше они клеймились как атрибуты «классового» общества). Подобную «реабилитацию» изгнанной в свое время терминологии находим у С. Ожегова в его статье «Основные черты развития русского языка в советскую эпоху», стр. 32:
«…условия нашей общественной жизни позволили возродить целый ряд тех старых терминов, которые были нейтральны по смысловым оттенкам по отношению к создавшей их надстройке и которые по своей терминологической четкости (одно слово, а не сочетание) удобно было использовать в условиях социалистической государственности нашего периода («директор», «советник», «министр», «адвокат», «солдат», обозначения различных военных званий и т. п.)…»
[20]Небезинтересно привести высказывания Ф. Гладкова по поводу этого слова («О культуре речи», Новый мир, № б, 1953, стр. 234):
«Наш народ и классики никогда не употребляли вульгарного провинциализма «учёба» (из псковского и воронежского диалекта по Далю)… И хотя это слово по недоразумению распространено (как было с печальной памяти словами «будировать», «довлеть», «пара дней», «использовывать», «хужее») и не гнушаются им даже языковеды, считать его литературной нормой никак нельзя. Благородные слова: «учение», «изучение», «обучение», «просвещение» надо реабилитировать и обеспечить им свое место в литературной речи.
…это дает повод некоторым людям считать «учёбу» неологизмом. Какой же это неологизм, если это слово так же старо, как и тот диалект, из которого оно взято и пущено в обиход? Кое-кто оправдывает употребление этого слова как литературную норму тем, что будто бы сам Горький утвердил его в названии журнала «Литературная учеба». Но здесь не место вскрывать историю происхождения этого названия. Горький этого слова не употреблял и не мог употреблять ни в разговоре, ни в произведениях».
[21]Последние два слова означают разные виды спортивных фуфаек, так же как и приводимое ниже слово «майка».
[22]Конечно, мы не имеем здесь в виду медицинской терминологии, почти полностью построенной на латыни.
[23]Попутно упомянем, что слово «закругляться» в смысле «заканчивать» весьма часто фигурирует в речи советских людей. В качестве примера приведем строки из одной только повести В. Некрасова «В родном городе», напечатанной в «Новом Мире» (№№ 10, 11 за 1954 г.):
– Пей свое пиво и закругляйся.
Парень, торопливо допив свою кружку, ушел.
Сененко с трудом оторвал его от этого занятия.
– Закругляйся, друг. Девятый час уже.
Минут двадцать все сидели, разговаривая преимущественно о погоде – зима, мол, закругляется… через недельку можно будет уже и без пальто ходить.
[24]В последние годы, в связи с относительным развитием автомобильного транспорта в СССР, в литературный язык все чаще проникают и соответствующие образы:
…к дядюшке забегал изредка – заправиться домашними пирогами. (Л. Ленч, Дорогие гости, 11).
Но… не сработал какой-то винтик в мозгу, отказало «зажигание», – и вот твой творческий мотор заглох. (Там же, 58).
[25]В издании 1947 г. Ф. Панферов убрал слово «скукожился», вместо «и село базынило» написал «и село горланило», вместо «Ну, пыжжай, пыжжай!» – «Ну, валяй, валяй!» и пр., значительно очистив «Бруски» от областных выражений.
[26]О некоторой дифференциации «блатных» элементов, сосуществовании локальных и, так сказать, «интернационально»-одесских арготизмов говорит Е. Поливанов (За марксистское языкознание, стр. 154):
«…когда мы можем локализовать (т. е. связать с известной территорией) процесс становления блатного термина, мы наталкиваемся на то, что термин этот имеет только местное распространение. А в качестве родины для таких «общеблатных» терминов, как «фрайер», «плашкет» и т. п. более вероятно будет предполагать наиболее крупный из интернациональных (особенно в социальных низах своих) городских центров, каким именно и является Одесса».
[27]Лишнее подтверждение истинной народности пушкинского языка находим в словах знаменитого славянофила П. Киреевского, сказанных не менее известному русскому филологу и фольклористу Ф. Буслаеву:
«Вот эту пачку (народных песен – Ф.) дал мне сам Пушкин и при этом сказал: 'Когда-нибудь, от нечего делать, разберите-ка, которые поет народ и которые смастерил я сам…'. И сколько я ни старался разгадать эту загадку – никак не могу сладить. Когда мое собрание будет напечатано, песни Пушкина пойдут за народные». (Ф. Буслаев, Мои воспоминания, Вестник Европы, 1891).
[28]Интересно отметить, что вхождению данного глагола в литературный язык сопутствовал или, вернее, непосредственно предшествовал процесс внутреннего обобщения, о чем говорит в своей статье Ф. Филин («Новое в лексике колхозной деревни», стр. 144):
«…В 1935 г. слово скирдовать стало обозначать не только складывать скирд, но и копну, стог, омет, кладушку и т. п., вне зависимости от формы складываемого материала».
[29]В данном техницизме находим не доосмысление обычного для языка слова «задуть» (потушить – «она задула свечу»), а прямо противоположный смысл: здесь «задуть» значит «разжечь».
[30]Внешне сходные обозначения народностей «эвены» и «эвенки» часто вызывают путаницу этих понятий. Так, героиня романа А. Коптяевой «Иван Иванович» (Москва, Сов. писатель, 1951, стр. 194) признается:
– Я была в одном эвенском колхозе… Там эвены. Я их сначала путала с эвенками, но, оказывается, это совсем разные народности. Эвенков раньше называли тунгусами. Они кочевали по Восточной Сибири – от Енисея до Охотского побережья. А эвены – ламуты. На их языке Охотское море называется Ламским морем.
[31]Аналогичное явление отмечено и К. Державиным в упоминавшейся выше статье о языке Великой Французской революции (стр. 38):
«…Бойкотируются и уничтожаются даже такие слова… как chateau, castel, chatel, chatillon. Топонимика революции пестрит примерами бойкота и вытравления слова saint… Городок Saint Lo переименовывается в Rocher de la Liberte, селение Sainte Mere-Eglise в Mere-Libre».
[32]Беспризорничество снова возродилось в годы Второй мировой войны и непосредственно после нее.
[33]Любопытно, что влияние войны на язык детей отмечено и Е. Кригер в статье «Суворовцы» (Известия, 28 июля 1945):
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: