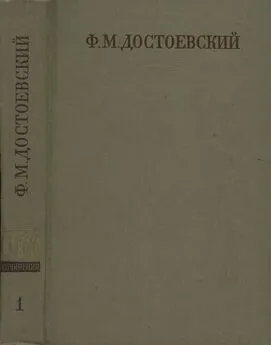Людмила Сараскина - Фёдор Достоевский. Одоление Демонов
- Название:Фёдор Достоевский. Одоление Демонов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Согласие
- Год:1998
- Город:Москва
- ISBN:5–86884–048–8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Людмила Сараскина - Фёдор Достоевский. Одоление Демонов краткое содержание
«Трудно было быть более в гибели, но работа меня вынесла…» Литературное признание Достоевского, воспринятое им со всей страстностью, со всем присущим ему фанатизмом и нарушением чувства меры, в конечном счете спасло его — дало силы выжить, не затерявшись в трагическом хаосе бытия, высвободило энергию сопротивления житейским невзгодам и страшным ударам судьбы, помогло преодолеть роковые соблазны и заблуждения.
Центральным сюжетом биографической истории, рассказанной в книге Л.И. Сараскипой, стал эпизод знакомства Ф.М. Достоевского с H.A. Снешневым, вдохновившим писателя на создание одного из самых загадочных образов ми|х>ной литературы — Николая Ставрогина. «Он романтически влюблен в своего героя, пленен и обольщен им. Никогда пи в кого он не был так влюблен, никого не рисовал так романтично. Николай Ставрогин — слабость, прельщение, грех Достоевского…» (H.A. Бердяев).
Фёдор Достоевский. Одоление Демонов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Правила приличий, соблюдения которых настойчиво требовал отец, не позволяли мальчикам- подросткам иметь непредусмотренные встречи со сверстниками и хотя бы маленькие карманные деньги. Но эти же правила не позволили отцу ни разу не только ударить, но даже поставить детей на колени или в угол — никогда и никого; как об особой удаче своего детства вспоминал Андрей Михайлович, что «в семействе нашем принято было обходиться с детьми очень гуманно» [54] A.М. Достоевский. Воспоминания. С. 66
.
Может быть, и в самом деле подозрительный Михаил Андреевич желал оградить своих сыновей от опасных людей и опасных идей — и поэтому пресекал предосудительные общения сыновей со слишком бойкими и дерзкими сверстниками. Но гораздо важнее, что он, вечно жаловавшийся на бедность, терзаемый страхом разорения, не отдал своих детей в гимназию, что было бы гораздо дешевле, а определил их в дорогой частный пансион, один из лучших в Москве; «гимназии не пользовались в то время хорошею репутациею, и в них существовало обычное и заурядное, за всякую малейшую провинность, наказание телесное» [55] Там же.
, — с благодарностью к родителям отмечал Андрей Михайлович.
Дети Достоевские не знали розог — и не знали страха ожидания розог, как знал их, например, младший сверстник Л. Н. Толстой и его герой, Николенька Иртеньев, дворянский отпрыск, на всю жизнь запомнивший и учительскую линейку, и угол для стояния на коленях лицом к стене, и свой стыд, свое отчаяние, свою ненависть к унижавшим его воспитателям. Писатель Достоевский — редкий, может быть, единственный представитель русской классической литературы, который не был бит в детстве.
IIIПансион Леонтия Ивановича Чермака, куда старшие братья Достоевские были устроены после года подготовительных занятий у учителя французского языка, имел репутацию идеального закрытого учебного заведения. Тем не менее резкий переход от домашней замкнутой жизни и товарищеского общения, ограниченного, в сущности, одним только братом Михаилом, к ежедневному, в течение целой недели, совместному пребыванию в компании подростков дался Достоевскому нелегко. (И если в характере Аркадия Долгорукого есть хоть малейшая автобиографическая основа, стоит задуматься над переживаниями мальчика, который вынужден был быть с людьми, навязанными ему случаем. А иначе — что означает признание героя «Подростка»: «С двенадцати лет, я думаю, то есть почти с зарождения правильного сознания, я стал не любить людей. Не то что не любить, а как‑то стали они мне тяжелы… К тому же и не находил ничего в обществе людей, как ни старался, а я старался; по крайней мере все мои однолетки, все мои товарищи, все до одного, оказывались ниже меня мыслями; я не помню ни единого исключения»?)
Так, может быть, прав был Михаил Андреевич, ограждая сыновей от докучливых и примитивных однолеток? Может быть, он как‑то угадывал склонности своих мальчиков к уединенной сосредоточенности? Может быть, судил о детях по себе? Ведь и сам он имел крайне узкий круг знакомых, в основном сослуживцев по больнице, живших к тому же по соседству и бывавших в доме запросто.
Во всяком случае, его гениальный сын и в отрочестве, и в юности, и во всю оставшуюся жизнь гораздо меньше страдал от одиночества, чем от принудительного общения — «насильственного этого коммунизма», вынужденного пребывания на людях, без возможности побыть одному. Добровольное затворничество, переживаемое как свободный выбор жизненного поведения, — могло ли оно быть таким, если бы детство осталось в его памяти как тюрьма?
Есть великий соблазн вслед за Любовью Федоровной Достоевской, дочерью писателя, оставившей интереснейшие воспоминания об отце, которые принято считать тенденциозными, увидеть в образе мыслей и типе поведения Михаила Андреевича, ее деда, дань литовскому шляхетству и древней дворянской фамилии (древность которой, впрочем, он, по недостатку средств, так и не собрался подтвердить).
Тогда боязнь дурного общества, стремление оградить своих детей от московского простонародья и околобольничных простолюдинов, увлечение латынью и поразительную щедрость (при общей скупости) в затратах на образование и впрямь захочется объяснить высоким сознанием гордого, честолюбивого, с европейским взглядом на вещи, дворянина древних литовских кровей. Этим же согревавшим душу мемуаристки обстоятельством можно истолковать и пристрастие Михаила Андреевича к французскому языку — и ту особую радость, которую он испытывал, когда дети, в дни его именин, преподносили ему перевязанные шелковой ленточкой написанные по — французски поздравления.
Но как связать шляхетское высокомерие, обязательно включавшее элемент надменности и гонора перед варварами — московитами, с тем культом русской истории и русской литературы, который царил в семье и который литовец — отец и украинка — мать смогли передать детям, а те страстно и вдохновенно воспринять?
Как соотнести принадлежность предков Достоев — ских к «Гербу Рыдвана», подразумевавшую ревностное католичество и преклонение перед латинской культурой, со строгим, патриархальным исполнением всех обрядов православной веры («всякое воскресенье и большой праздник мы обязательно ходили в церковь к обедне, а накануне — ко всенощной»), с ежегодными путешествиями семьи в Троицкую лавру, длившимися по нескольку дней («эти путешествия были для нас эпохами в жизни» [56] А. М. Достоевский. Воспоминания. С. 49.
)?
И как быть с вышеупомянутым соблазном, если принять современную версию происхождения писателя, согласно которой его предки берут начало от великорусского рода Ртищевых, а село Достоево Поречской волости Пинского уезда Минской губернии было вотчиной, пожалованной в начале XVI века одному из Ртищевых, дети которого назывались уже, по имению, Достоевскими?
Так или иначе, в многодетной семье прилежного, благонамеренного, неоднократно награжденного орденами (св. Анна третьей степени, св. Владимир четвертой степени, св. Анна второй степени) коллежского советника с несколько тяжелым характером и милой, простодушной, жизнерадостной, общительной женщины, беззаветно любившей своего угрюмого мужа, рос одаренный мальчик. И его отец и мать, исполняя свой родительский долг, как они его понимали и как умели, не в ущерб другим детям, смогли сберечь в нем Божью искру. Они не исправляли его натуру, стремясь добиться гармонической уравновешенности свойств, не ломали характер, не усмиряли нрав, а каким‑то образом усилили и укрепили природные черты и дарования.
К тому моменту, когда Федор Достоевский вступил в мир «чужих», он был малообщительным подростком, страстным книгочеем и запомнился одному из одноклассников, В. М. Каченовскому, как «серьезный, задумчивый мальчик, белокурый, с бледным лицом», которого «мало занимали игры: во время рекреаций он не оставлял почти книг» [57] См.: Московские ведомости. 1881. № 29.31 января.
.
Интервал:
Закладка: