Александр Жолковский - Осторожно, треножник!
- Название:Осторожно, треножник!
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Жолковский - Осторожно, треножник! краткое содержание
Книга статей, эссе, виньеток и других опытов в прозе известного филолога и писателя, профессора Университета Южной Калифорнии Александра Жолковского, родившегося в 1937 году в Москве, живущего в Санта-Монике и регулярно бывающего в России, посвящена не строго литературоведческим, а, так сказать, окололитературным темам: о редакторах, критиках, коллегах; о писателях как личностях и культурных феноменах; о русском языке и русской словесности (иногда – на фоне иностранных) как о носителях характерных мифов; о связанных с этим проблемах филологии, в частности: о трудностях перевода, а иногда и о собственно текстах – прозе, стихах, анекдотах, фильмах, – но все в том же свободном ключе и под общим лозунгом «наводки на резкость».
Осторожно, треножник! - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Интеллектуальная сторона дела тесно переплетена с территориальной, один из аспектов которой состоит в том, что в России критик убежден (подражая уже другому поэту), что он больше, чем критик. Поэтому он берется как за мировые проблемы (ну это ладно, – если надо, силовые структуры его поправят), так и за литературно-теоретические, [250] уже сам выступая в силовой роли и обрекая литературоведов, скромно возделывающих свой сад, оправдываться и доказывать свою общественную полезность.
Нападки на интерекстуалистов разных мастей – статью одного из которых Сарнов сокрушенно обнаруживает на страницах «Вопросов литературы» [251] – строятся по несложной и все-таки логически безнадежной схеме. Начинается каждый раз с принципиального отвержения самой идеи литературных перекличек, потом предъявляются и с фельетонным сарказмом изничтожаются неудачные находки доцентов, затем приводятся примеры интертекстов, правильно угаданных недоцентами (или доцентами, временно переборовшими свою псевдоученость), и в заключение еще раз торжественно повторяется заклинание о вредности интертекстуального метода.
Так, пожурив интертекстуалистов за желание всюду видеть тайны, требующие разгадывания, и осмеяв несколько расшифровок, предложенных в книге И. П. Смирнова «Роман тайн “Доктор Живаго”», Сарнов через несколько страниц демонстрирует удачное интертекстуальное прочтение Пастернака, принадлежащее не кому-либо из членов гелертерской мафии, [252] а собрату-писателю, – то место из «Алмазного венца», где Катаев злорадствует по поводу обнаруженной им переклички «Спекторского» с поэмой Якова Полонского «Братья»:
«Дело <���…> конечно, не в “кульках”, которые перекочевали к Пастернаку из <���…> поэмы Полонского. “Кульки” только подтвердили <���…> что восхитившие <���Катаева> строки Пастернака не случайно напомнили ему знакомый звук – тот же рифмованный ямб с цезурой на второй стопе и те же ритмико-синтаксические фигуры, что у Полонского [курсив здесь и далее в цитатах – авторов статей. – А. Ж. ].
Никаких ученых трудов теоретиков и практиков постструктурализма Катаев, конечно, не изучал. Он самостоятельно “одновременно и даже несколько раньше”, как некогда было сказано про Ломоносова и Лавуазье, открыл получивший впоследствии такое распространение постструктуралистский метод интертекстуального анализа. Сам, как говорится, изобрел этот велосипед. И <���…> на этом своем самодельном велосипеде он уехал гораздо дальше, чем все упомянутые выше постструктуралисты на своих ультрасовременных машинах, в массовом масштабе сходящих с заводского конвейера. А главное, он знал, куда и зачем едет. И поэтому возникшая у него “интертекстуальная” ассоциация нам что-то дает! <���…> У ученых мужей <���…> что ни выстрел, то – мимо. А Катаев без всякой тренировки и пристрелки сразу попал в яблочко. Объяснил я это (для себя) тем, что <���…> в отличие от всех знакомых мне постструктуралистов, Катаев – поэт, художник <���…и> на редкость талантливый <���читатель>» ( Сарнов 2006: 25–26).
Логика – типа: «Во-первых, я его не брала, во-вторых, давно вернула целым, а в-третьих, он и был разбитый». Во-первых, никаких таких методов не бывает, во-вторых, этот метод открыт не вами, а в-третьих, вы по бездарности не умеете им пользоваться, а другие его давно успешно применяют.
Этот удручающий уровень аргументации взывает не столько к опровержению, сколько к анализу этиологии. Откуда такая ненависть к научным работникам? Откуда непонимание, что все-таки (чему бы ни учили в Литинституте в конце 40-х годов) не Ломоносов, а Лавуазье является основателем современной химии, и что счастливые прозрения вроде катаевского никак не заменяют систематической разработки соответствующего исследовательского аппарата? Почему поборник литературоведческого руссоизма не видит, что сам пользуется научными конструктами (такими, как «цезура на второй стопе» и «ритмико-синтаксические фигуры», собственно, и позволяющими соотнести тексты Пастернака и Полонского), – просто не новыми, а вошедшими в литературоведческий обиход несколько раньше и тоже вопреки протестам обскурантов? Почему, интуитивно не одобрив ту или иную конкретную находку интертекстуалистов, он отказывает им в осмысленности и самих поисков, – ведь кто-кто, а интуитивист должен понимать, что об интуитивных впечатлениях не спорят? Или он действительно убежден, что они с Катаевым о-го-го, а все остальные э-хе-хе?!
Вот он чихвостит автора статьи о «Двух капитанах» за не убеждающие его, Сарнова, текстовые параллели с «Гамлетом». [253] Некоторые из них и мне кажутся наивными, другие более убедительны, а общую идею проекции романа на шекспировский прототип я нахожу перспективной гипотезой, способной разрешить загадку – да, загадку! – завораживающей притягательности одного из лучших произведений советской литературы. В телефонном разговоре [254] Сарнов реагировал на мои похвалы этой гипотезе кисло: сопоставление с Шекспиром, по его мнению, ничего не дает, если уж на то пошло, то говорить надо о сходстве с Диккенсом. То есть опять отрицал конкретную интертекстуальную параллель, но взамен нее готов был рассматривать другую, уже известную (и в статье Смиренского упомянутую). Не мог он отрицать и осмысленности самой стратегии исследователя, стремящегося текстуальными параллелями обосновать свою основную гипотезу.
Для одного интертекстуалиста, Омри Ронена, [255] Сарнов все-таки делает исключение и признает одну из его мандельштамоведческих находок более «истинной», нежели соображения на ту же тему Н. Я. Мандельштам и М. Л. Гаспарова. Не входя в конкретику спора (о том, где происходит финальная перекличка в «Стихах о неизвестном солдате»), сосредоточусь на формате рассуждений критика. Согласно Сарнову, Ронен прав, во-первых, потому, что его находка [256] подтверждает интуитивное ощущение самого Сарнова, высказанное им ранее; во-вторых, потому, что прочтение это – более возвышенное, сакральное; [257] в-третьих, потому, что Ронен, вслед за своим учителем Якобсоном (и в отличие от Шкловского и Лотмана) готов исследовать только любимых авторов; [258] и, в-четвертых, потому, что, как видно из книги его мемуарных эссе, Ронен – не рядовой зануда-интертекстуалист, а проникновенный художник слова, [259] и, значит, ошибаться не может.
Но нет, может, может! Может, если пойдет на поводу у извращенных постструктурных методов! [260] Пример – предлагаемый Роненом, но не устраивающий Сарнова подтекст к мандельштамовской эпиграмме на Сталина. Вслед за Сарновым бегло процитирую Ронена:
«В ней Мандельштам возродил традицию фольклоризованной гражданской сатиры ХIХ века с той постановкой “русского голоса”, которая вызывает в памяти, в первую очередь, “народный стиль” гр. А. К. Толстого. Своим ритмико-интонационным строем, риторикой негодования, смягченного просторечивым юмором и позой простодушного изумления, и несколькими конкретными деталями эти знаменитые стихи восходят к не менее знаменитой “песне” Толстого “Поток-Богатырь”. Сходство между некоторыми строками можно указать вполне отчетливо:
Интервал:
Закладка:




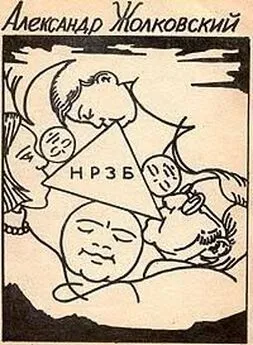


![Александр Басов - Осторожно! Мечты сбываются [СИ]](/books/1092348/aleksandr-basov-ostorozhno-mechty-sbyvayutsya-si.webp)


